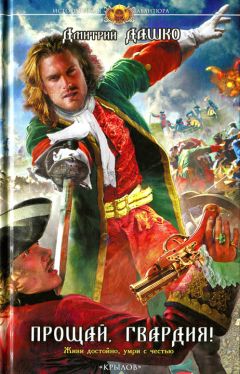Чернявый нехорошо усмехнулся:
— С чего вы так решили? Я прекрасно осведомлен о вас, господин фон Гофен. Мне известен и ваш чин, и ваше положение.
— Раз тебе все известно, наведи порядок. Я спешу.
— Простите, господин майор, но я вынужден арестовать вас и ваших людей и препроводить в крепость.
— На каком основании? — поинтересовался я, пытаясь понять, откуда ветер дует.
Кое-какие теории на этот счет у меня успели появиться, но мне хотелось подкрепить их фактами. Последующие события показали, что я не ошибся.
— На основании высочайшего указа императрицы Елизаветы Петровны, — объявил Грюнштейн. — Не вздумайте сопротивляться, господин майор. У меня четкие распоряжения насчет вас. При малейшей попытке сопротивления мы будем вынуждены применить силу.
Я завертел головой, оценивая обстановку. На заставе не меньше целого капральства — человек тридцать. Все поголовно с повязками, значит, люди Грюнштейна. Как назло, ни одного знакомого лица. На сочувствие рассчитывать нечего, на присягу давить бесполезно.
Ввязываться в драку с таким количеством крепких вооруженных солдат было бы чистым безумием. Теперь я на собственной шкуре ощутил, что чувствовал генерал Врангель, въехав в стены Вильманштранда.
Убивать меня вроде не собирались. Если бы хотели — шлепнули бы сразу.
Крепостные казематы тоже не сахар, но на данный момент они были предпочтительней верной смерти на свежем воздухе.
— Скажи, сержант, а когда это Елизавета Петровна успела стать императрицей? — обратился я к Грюнштейну.
— Нынешней ночью, — довольно осклабился тот. — Манифест о том сегодня будет отправлен в действующую армию. Вы, верно, в пути с гонцами царскими разминулись.
— Погоди, сержант. А Анна Иоанновна?
— Божьей милостью преставилась, — ответил сержант и отвел взгляд.
От меня его лукавое движение не ускользнуло. Грюнштейн явно опасался сказать больше, чем нужно.
— Перед смертию своей написала завещание, по которому передала корону российскую цесаревне Елизавете, — продолжил он.
— Ну, а меня-то за что арестовываете?
— То мне неизвестно, — снова соврал Грюнштейн. — Пущай в Тайной канцелярии разбираются.
— Где? — пораженный, воскликнул я.
— В Тайной канцелярии. Указание арестовать вас исходило от генерала-аншефа Ушакова. Матушка императрица лишь апробировала сие, — поделился со мной информацией сержант.
Это был гром среди ясного неба! Сказать, что меня это известие оглушило, — все равно что ничего не сказать. Я был повержен, раздавлен, морально уничтожен. Как же так — сам глава Тайной канцелярии, человек, стоящий на страже безопасности империи, генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков примкнул к заговорщикам и велел арестовать меня! Это просто не укладывалось в голове. Не так давно мы разговаривали. Он назначил меня командиром особого отряда. А до этого я выполнял его весьма непростые, но очень важные для страны поручения. Почему же он переметнулся к врагу?
Я бросил недоверчивый взгляд на сержанта, но на этот раз он не стал отворачивать лицо в сторону. Похоже, в этой части преображенец не лгал.
Сани с плененными генералами умчались. Грюнштейн велел отвезти шведов, чтобы «представить их пред очи государыни как доказательство мощи оружия российского». А тех, кто, собственно, этим оружием и был, то бишь меня, Чижикова и Михайлова, поволокли в Петропавловскую крепость. Сопротивление оказывать мы не стали. Хотя мне пришлось успокаивать гренадер.
— Ничего, как-нибудь выкрутимся, — говорил я им, не очень-то веря в свои слова.
Чижиков набычился, Михайлов угрюмо сопел, но в драку они все же не полезли.
Я попытался поговорить с Преображенским сержантом насчет арестованных гренадер. Каким бы опасным меня ни считали, они-то не имели к этому никакого отношения и не должны были лишаться свободы из-за меня.
Однако Грюнштейн ответил:
— Высочайше велено арестовать всех лиц, что с вами прибудут.
Дальше повторилась та же история, как в первый день моего пребывания в прошлом. Унизительная процедура обыска, во время которой меня раздели и в одном нательном белье затолкнули в тесную камеру-одиночку. Снова холод собачий, непроглядная темень, смешки караульных в коридоре. И ощущение полной безнадеги. Я не оправдал доверия. Облажался по полной программе.
Переворот все же случился, моя ставка оказалась битой. Если Кирилл Романович не ошибся, впереди нас ждут еще более дурные времена. Пусть не моя в том вина, но что теперь будет с «родиной и с нами»?
Глупее всего быть подбитым на самом взлете. Я многого добился, причем сам, благодаря уму, хватке, интуиции. Начинал с рядового, выбился за короткое время в высшие офицеры гвардии. Познакомился с двумя Биронами, Остерманом, Минихом. Подружился с Антоном Ульрихом. Участвовал в военной реформе, разрабатывал план успешной военной кампании, лез в самую горячку боя. И проиграл тому, кто за моей спиной тихой сапой обстряпывал грязные делишки, убивая невинных исподтишка.
Потом я стал думать о другом. В нашей стране хватает людей, мечтающих о возрождении монархии и «элиты элит» — дворянства. Если с первым я согласен, то второе вызывает у меня опасение. Обратившись к истории, можно обнаружить любопытную закономерность: почти всегда русские цари и императоры боролись с теми, кто вроде бы должен быть их столпом.
Иван Грозный, Петр Первый — кто им противостоял, кто мешал реформам? А кто в восемнадцатом веке устраивал бесконечную чехарду дворцовых переворотов?
Кто убил Павла Первого, обманом вывел солдат на Сенатскую площадь, покушался на Александра Третьего? Кем, в конце концов, был Ульянов-Ленин?
Почему Колчак и прочие вожди Белого движения безжалостно вычищали из своих рядов монархистов? Да-да, «белые» отнюдь не ратовали за царя на троне.
Ответ прост: самодержавие и дворянство в России всегда вели войну друг с другом. «Элите элит» смертельно опасна сильная царская власть, ей нужны шляхетские вольности. А там, где пан чувствует себя вольготно, какой еще чуб — у холопа все тело трещит!
Стоит где-то дать слабину, из-за рыцарской веры в человеческую порядочность проявить доверие, как «бедный Павел» и… вот она — кучка офицеров, топающих по лестнице Михайловского замка, и император, достойно принимающий кончину.
Коварный удар в спину, выстрел из-за угла, предательство того, кого считал другом.
Капиталист пойдет на любое преступление ради прибыли в триста процентов, но это ведь не человек, а механическое устройство для зашибания бабла, от которого не требуют наличия совести или души. С такого и взятки гладки.