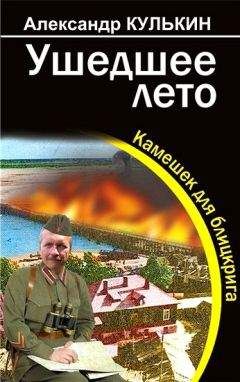Смотря на первый поцелуй молодоженов, я грустно улыбался — дай-то бог им остаться в живых. И пошли им, простого человеческого счастья.
Вот и остался я командовать на тонущем корабле. Что оставалось делать? Спасать пассажиров и команду! Осталось совсем мало времени, и мой долг — думать о людях. С этими мыслями я вновь углубился в бумаги. Делай, что должно, и пусть будет, что будет!
Так что обвинения товарища старшего сержанта медслужбы в преднамеренном разгоне облмедздрава и вредительстве я воспринял совершенно спокойно. Выслушав пятнадцатиминутную речь о трудностях, с которыми столкнулась новоиспеченная областная служба, и согласившись со снятием домашнего ареста с сержанта Свириной, тем самым её очень разочаровал. Бормоча себе под нос что-то о «солдафонах», разгневанная Эстер Шлёмовна покинула мой кабинет, а я, вздохнув, подтянул к себе карту города. Интересно, сколько нужно времени для превращения деревянного моста в груду головешек? Эх, хотел бы иметь сейчас рецепт напалма, может быть, удалось бы сделать. Не вовремя появившийся Абрамзон спасся только тем, что с гордостью отрапортовал о находке керосина. Распорядившись по телефону, о выделении ему одного «ЗиСа» и бойцов в помощь, я отправил Абрамзона от греха подальше. Заканчивался ещё один день без войны. Она кружила где-то рядом, как гиена, выбирая момент для прыжка, но её время ещё не пришло.
«В течение десятого августа наши войска продолжали вести с противником упорные бои на СОЛЬЦСКОМ, ХОЛМСКОМ, СМОЛЕНСКОМ, БЕЛОЦЕРКОВСКОМ и УМАНСКОМ направлениях.
Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по мотомехчастям и пехоте противника.
За девятое августа нашей авиацией сбито сорок пять немецких самолётов. Наши потери двадцать пять самолётов.
По уточнённым данным во время налёта немецких самолётов на Москву в ночь с девятого на десятое августа сбито не восемь самолётов, как указывалось ранее, а десять самолётов. Кроме того, наши истребители днём девятого августа в московской зоне ПВО уничтожили пять немецких самолётов-разведчиков».
Прошла ещё неделя. Всё было готово, всё. Остался в прошлом тяжёлый разговор с епископом Мозырским и Туровским. Дед был сильно зол на советскую власть, но немцев, в качестве освободителей, ещё больше не жаловал. Так что он согласился предоставить убежище моим бойцам, и даже пообещал привести в порядок подземный ход до бывшего женского монастыря в Юровичах. Я представил себе многокилометровое путешествие под землей и вздрогнул. Впрочем, мне это не грозило…
Шестнадцатое августа началось с утренней сводки, она была тревожно краткой:
«В течение ночи на шестнадцатое августа наши войска продолжали бои с противником на всём фронте, особенно упорные на юге.
Наша авиация наносила удары по войскам противника».
Смоленск уже исчез из сводок, перестали упоминать и Смоленское направление, я же с тревогой ждал упоминания Гомеля. То, что мы ещё не на острове, давала знать только железная дорога. Два дня в южном направлении шли эшелоны с войсками, кажется, перебрасывали подкрепления на Украину. Впрочем, это прошло мимо нас. Связи не было, даже железнодорожники в Калинковичах остались без неё, и любой эшелон встречали де-факто, по прибытию. Я был на железнодорожной станции и от замотанного до потери человеческого облика начальника службы движения узнал последние новости. Бои приближались к Калинковичам, но пока наши войска ещё держали оборону. Мост через Днепр близ Речицы был поврежден диверсантами, но его уже восстановили. Войск в Калинковичах не было, их ополченческую роту засосало в проходящие войска, и только взвод линейной милиции охранял депо и вокзал. Подумав, я своей властью назначил Ершова военным комендантом поселка Калинковичи и, соответственно, железнодорожного узла. И не давая новоиспеченному военкому разразиться стенаниями, тут же обрадовал, что выделяю в его подчинение целый взвод красноармейцев.
К обеду я был на острове, где вместе с комроты-один проверял окопы и всё наше хозяйство. На мой взгляд, всё было хорошо, но настоящие «экзаменаторы» ещё не пришли. Какой-то непонятный звук назойливо лез в уши, и я недовольно посмотрел на деревянный мост. Но там было всё почти по-прежнему, только вот люди смотрели только вверх. Вновь раздался треск рвущегося полотна, и я поднял голову.
В бездонном и безоблачном небе, под пристальным взглядом солнца, творилась трагедия сорок первого года. Одинокий двухмоторный самолет, по-моему, «ДБ-3», пытался отбиться от двух истребителей. Ещё стреляли его пулемёты, но правый мотор уже выбросил струю чёрного дыма, бомбер тревожно дернулся и стал снижаться. Сквозь дым стали пробиваться языки пламени, значит — всё. В воздухе ослепительно забелели купола парашютов, и, не опуская головы, я приказал:
— Отделение бойцов на автомобиль, поедете с ними. Лётчиков подобрать, и немедленно в Калинковичи.
Но стервятники Геринга решили по-своему. Сделав круг над падающим самолетом, ведущий устремился к парашютистам. Надрывая сердца, вновь застучали пулеметы, и гневный ропот служил им эхом. Не помню, или я приказал, или пулеметчики не сдержались? Но от моста свирепо зарычали «Максимы», и трассирующие нити устремились в небо, пытаясь нащупать, наказать, убить сволочугу. Этот рёв привёл меня в чувство, и посыпались приказы:
— Всем, немедленно в окопы! Людям на мосту лечь! Не допускать паники! Вы-ы-ыполнять!!
Предчувствие меня не обмануло. «Мессеры» оставили в покое летчиков и начали пикировать на мост. Дальше было страшно. Нет, не так. Это было уже за страхом, за ужасом, и вообще за жизнью. Убивали людей. Я впервые в жизни увидел, как пули рвут землю, как живого человека перечеркивает очередь, и он перестает быть. Как беззвучно кричит человек, из которого жизнь вытекает с каждой каплей крови. Как медленно падает комроты-один, пытаясь прикрыть своим телом глупую девчонку, бросившуюся навстречу очереди, к раненому. Я ничего не слышал от собственного крика «Огонь!» и, давясь слезами, высадил в небо барабан своего «нагана». Краем глаза я успел заметить небольшую бомбочку, сброшенную с «мессера», и успел упасть. А вот комиссар не успел. Кинувшись к замолчавшему пулемёту он был сметён градом осколков. Лёжа я схватил лежащую недалеко винтовку, которая выпала из рук убитого, и пули вновь полетели в небо…
В сумраке подкрадывающейся ночи я сидел на берегу реки и курил. День, который познакомил меня со смертью, заканчивался. Только полстакана спирта оглушили мои обнаженные нервы, и смог я понять, что нельзя мне быть человеком. Я — командир! Я должен, должен, скинуть в дальние закрома памяти всё, что увидел, всё что осознал. Надеть броню, застегнуться, и командовать. Собрать оружие, доложить о потерях, организовать движение по мосту. Назначить командира первого взвода командиром роты, срочно укомплектовать расчёты пулеметов и отослать машину на поиски лётчиков!