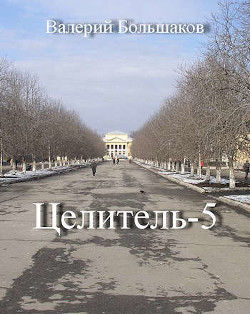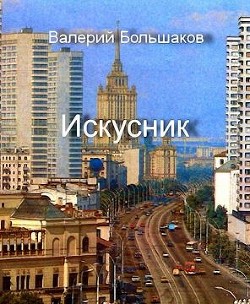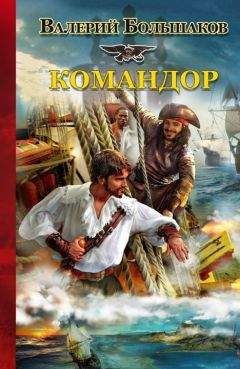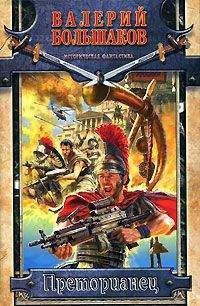— Кроме Конго! — расхохотался Вайткус. — Есть там у меня пара дружков!
Мы не спеша зашагали в зыбкой тени деревьев. Они выстроились в два ряда — летом тут не тротуар, а настоящая парковая аллея.
— Вы жили в Берлине? — бросил я наугад.
— Служил здесь, — усмехнулся Ромуальдыч. — С тридцать восьмого.
— Как штандартенфюрер Штирлиц? — ляпнул я.
— Как оберштурмбанфюрер Войтке.
— Арсений Ромуальдович… — забормотал я потрясенно. — И вы молчали?
— С тобой на пару, Миша! — беглая улыбка скользнула по губам Вайткуса. — С моих подвигов пока не снята секретность. А с твоих… хм… думаю, гриф «Особая папка»[2]и не снимут никогда. Миша… — он посерьезнел. — Тебе было плохо там, в будущем?
— Да как вам сказать… — не хотелось, чтобы Ромуальдыч зачислил меня в отряд тех, кто с жиру бесится. — Материально я не нуждался, хотя миллионов не нажил. В магазинах всего полно, но натуральных продуктов фиг найдешь, сплошь эрзацы. Да и не в этом дело. Угнетала антисоветчина. Коммунисты плохие, пионеры и комсомольцы — придурки, совок — отстой… А то, что кучка воротил разграбила народное хозяйство — это ничего, это нормально! Знаете, читал в школе Ефремова и не понимал, что такое инфернальность. А как пожил при «воровском капитализме» — сразу осознал! Но большинство привыкло. Освоилось. Да нет, в России-то еще жить можно, и президент нормальный…
Я рассказывал, Вайткус мрачнел, а когда мой рассказ угас, он болезненно сморщился.
— Жаль, что мне скоро шестьдесят шесть брякнет! Хотя… Мозги варят пока, и сила в руках есть, и глаз зорок. А то ведь… — он вздохнул. — Рано я, выходит, на пенсию подался. Работы — море! Не дай бог, опять в такое же будущее вляпаемся!
— Все течет, все изменяется, — хмыкнул я, пародируя Гераклита. — В одно и то же дерьмо не ступишь дважды. Правда, перемены заметны лишь одному мне, вам просто не с чем сравнивать. Вопрос: успеют ли они набрать инерцию, чтобы стать необратимыми? Ну-у… Тут уж… — я неуклюже махнул сумкой. — Вы мне лучше о своих секретных подвигах расскажите! А то мне эта «реал политик» надоела хуже горькой редьки!
— Да что там рассказывать… — Ромуальдыч поправил шарфик. — Знаешь, я поначалу думал, что наибольший героизм — етто прожить целый год во вражеском стане, в самом логове! Ничего… Дотянул до самой Победы. Помню, мечтал в июне сорок первого, как всажу всю обойму в Гитлера, или хотя бы в Геринга! А потом понял, что подвиг не в том, чтобы шлепнуть гада — и сдохнуть. Не-ет… Вот, когда ты еттому гаду улыбаешься, а сам норовишь вызнать все его гадские секреты, вот тогда… Нет-нет, и тогда етто не подвиг, а работа! Тяжелая, опасная, грязная… Или есть еще такое, порядком затасканное слово — долг. Слышишь, как люди визжат под пытками — улыбайся! Шути над чьими-то муками! Вот такое паскудство… М-да. Смотришь иногда наши фильмы «про войну», а там гитлеровцы сплошняком — мразь распоследняя! Простые, незамысловатые враги — так и тянет уничтожить. А если враг интеллигентен и культурен? Тонко разбирается в живописи, в пятый раз перечитывает Плутарха… Был у меня такой вражинка, — усмехнулся он. — Прямой потомок крестоносцев, барон Рихард фон Экк! Мы с ним пили мозельское, да не покупное, а из баронских погребов, спорили о пейзажах старых фламандцев… Я в те дни сообщил, кому надо, о поезде с евреями из Будапешта — их отправляли в Дахау. Партизаны из Сопротивления остановили состав, перестреляли охрану… В общем, зря культурные немцы растапливали крематорий. А потомок крестоносцев что-то пронюхал! Ну, и махнул в город — доложить. Я за ним. Он на легковом «Хорьхе», я на грузовом «Опеле». Еле догнал! Смачное ДТП получилось… — задумавшись, Вайткус усмехнулся. — Причудливые следы судьбы… Сперва я терпеть не мог Германию, Берлин, вообще немцев. Всё воспринималось через призму войны. А когда поневоле вжился, стал различать полутона. Не бывает плохих народов, бывают плохие люди. Вот, ты рассказывал про Украину, про тамошних фашистов… Разве можно представить себе подобное сейчас, сегодня? Да, там хватает бандеровцев-недобитков, но общий-то настрой нашенский! Видишь, как… Хватило жизни одного поколения, чтобы извратить, искривить детские души! Как в «Гитлерюгенде». А уж компрачикосы всегда в избытке… М-да. На еттом мы и с Мартой сошлись. В сорок четвертом ей едва восемнадцать исполнилось, она как раз вступила в Союз немецких девушек. Активисточка такая была, пламенела энтузиазмом. Глупенькая, но хорошенькая и… не испорченная, что ли. Я тогда пошел на серьезный проступок — свозил девчонку на экскурсию в «образцовый» концлагерь. В Заксенхаузен. Провел ее везде, показал, объяснил любезно — вот тут, в этом складе, фройляйн, хранятся волосы, состриженные с узников. Немецкая бережливость, фройляйн! Будет чем матрасы набивать. А во-он там, видите, труба коптит? Это печи — их топят евреями, цыганами и прочими несовершенными. Разумеется, мы не сжигаем их заживо! Что вы? Как можно? Мы же цивилизованные. Загоняем сперва в душевые, только пускаем не воду, а газ «Циклон»… Или вон, видите? Чистенькое такое зданьице? Там медики управляются — выкачивают из малолетних унтерменшей кровь, чтобы спасать наших доблестных воинов. А еще опыты ставят. Удалят узнику пару важных органов — и смотрят. Исследуют, как именно он загибается… М-да. После той экскурсии Марта с неделю не показывалась. Я уж думал — всё, расстались, ан нет! Пришла. Бледная такая, решительная. Обозвала меня «нацистской сволочью», да как выхватит «парабеллум»! Чуть не пристрелила. А я так обрадовался… Вылечилась, думаю, «Мартышечка» моя! Хватаю ее, уворачиваюсь от ноготков, чтоб щеки не располосовала, объясняю… И правду сказать нельзя, и таиться неохота! Ну, помирились, с грехом пополам, а потом… А потом я маху дал. Не заметил за собой хвоста! Короче, выследила меня Марта. Я как раз с подпольщиками встречался, передал им целый тюк рейхсмарок, чистые бланки, то, сё… Возвращаюсь домой, а там эта негодница. Сияе-ет… Ох… У всех девушки, как девушки, то «котиком» назовут, то «солнышком», а я слышал в свой адрес ласковое «мой миленький шпиончик»… Осенью сорок пятого мы сыграли свадьбу. Меня тогда оставили при коменданте Берлина… да я уже и не рвался домой особо. Мой дом был тут…
Вайткус смолк. Я тоже молчал. Перед глазами плыли полустертые образы прошлого: валятся на крыло «Юнкерсы»… устало бредут пленные… танки утюжат переспелую пшеницу…
— А мне в понедельник уезжать, — вздохнул я.
— На поезде? — уточнил Ромуальдыч.
— Ага.
— Годится, — кивнул Вайткус. — Хоть выспимся в купе.
— А как же… — радость я припрятал за деланным огорчением. — «По местам боевой и трудовой славы»?
— Так, етта… Времени еще — вагон и маленькая тележка! Пошли, оттащим твой чувал…
…А Восточный Берлин жил-поживал по-прежнему, не гадая, какие петли завьет след его судьбы.
По проспекту мельтешили «Икарусы», «Вартбурги», «Трабанты», «Волги». Прохожих было мало — все на работе, лишь кое-где выстаивались очереди.
«Счастье для всех, только не даром! — подумал я. — От дармовщины до халявы — один шажок…»
Тот же день, позже
Рим, площадь Читта Леонина
В полосатой тени колоннады Бернини «новые крестоносцы» расстались — Альбино отправился на аудиенцию, а Томаш — в гости к кардиналу Полу Марцинкусу.
К чему дожидаться одобрения Апостольского дворца? Не важно, какой будет воля понтифика! Чтобы Церковь и впредь оставалась Святой, она должна быть очищена от нечестивцев.
Кардиналы прописались в огромном доме на площади Читта-Леонина, примыкавшей к условной границе Ватикана. Платек улыбнулся уголком рта — не так уж давно он побывал здесь вместе с Аглауко.
«Надеюсь, тебе попались трудолюбивые черти, — мелькнуло у него, — и они усердно подбрасывают дровишек под твой котел…»
Мимолетно оглядев себя, Томаш неторопливо зашагал к парадному. Могучую фигуру поляка затягивала строгая черная сутана, опоясанная алым кушаком, а черные усики скобкой и очки в роговой оправе придавали ему сходство с одним из епископов в далекой Мексике. Сильные пальцы медленно перебирали бусины четок.