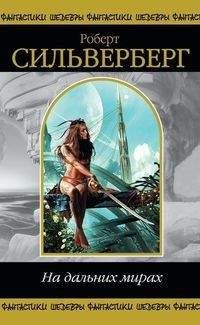Ох, уж этот Новгород – словно бельмо на глазу. Выкорчевать, вырвать с корнем эту новгородскую заразу – вече да права какие-то. Какие, к чертям собачьим, права могут у худых мужиков быть, кроме как перед княжьим величием башку благоговейно склонять? То и боярам уразуметь не худо, ну а дворяне и так послушны – землицу-то им кто дает? То-то же! Князюшка! Хочет – даст, хочет – отнимет. Его государева воля. А Новгород – сжечь, чтоб и не было! Ну, это не сразу. Пока же…
Кого они там посадником выбрали, государя не спросясь? Боярина Завойского. Не знаю такого. Старый-то посадник был, Епифан Власьевич, дурак дураком. Наверное, и этот такой же. Да черт с ними обоими. В следующее лето – новый поход. И к ногтю их всех, к ногтю.
– Эй, кто тут, в покоях? Дьяка Курицына сюда! Да побыстрее!
– Звал, великий государь?
– Звал, звал… Новгородского посадника утверждаю. Все равно сейчас не до них, а не утверди – так ведь нового-то, чай, не выберут. Оттого нашей государевой чести поруха. Так?
– Так, великий государь.
– Ну, а раз так, отправь кого-нибудь в Новгород от моего имени. Да не из знатных кого. Так, худородных. Не шибко-то честь Новгороду… Все понял?
– Исполню, великий государь.
– Ну и исполняй. Да, скажи-ка, Федор, что братцы мои разлюбезные поделывают? Вот где змеи-то притаились.
Вырвавшись из дому, без оглядки бежала вдоль по Молотковой улице Марья, красавица греческая. В черных глазах ее застыла жгучая обида, катились по щекам злые слезы. Ветер сдувал их, сушил, морозил лицо. Черные косы бились по плечам, распахнулся полушубок. Прочила мать, Фекла, в женихи Маше давешнего старого урода. Низенького, плюгавенького, с бороденкой, как у козла. Нет! Никогда! Ни за что! Уж лучше Ондрюшка. Или… в проруби утопиться? Нет, убежать! Да, убежать. Вот прямо сейчас! Да не одной, а вместе с Ондрюшей. Одной-то страшно, а тот и сам бежать не раз подговаривал! Убегут далеко… Хоть в Тихвин, где икона.
Про икону ту чудесную рассказывали в Михалицком монастыре монахи. Сказывали, всех привечают в тех краях. Хоть и тоже новгородская земля – Тихвин – а от Новгорода куда как далече. Уродец козлобородый вовек не сыщет! Мать вот только жалко. И сестер, и братьев. Эх, удалось бы хоть как-то разбогатеть, хоть чуть-чуть, немножко. Из нищеты проклятой выбиться.
Может, в ушкуйники Ондрюше пойти? Не молод ли? Да нет. И помоложе него в ушкуйники хаживали. А зачем в ушкуйники? Он ведь года два уж у мастера Тимофея Рынкина замки делает. А Тихвин тоже кузнями своими славится. Чай, и Ондрюше работа найдется. Но захочет ли бросить отца своего, семейство? Они ведь тоже бедные. Пойдет ли со мной? Пойдет. Вроде любит. А там, Бог даст, и случится счастье. Матери будут серебришко присылать с оказией, да Ондрюшиным… Господи!
Не заметив присыпанную снегом ямину у трапезной Михалицкого монастыря, свалилась Маша. Хорошо, не убилась. Снег мягок оказался. Оглянулась, из ямы вылезая. Не видал ли кто? Ведь позорище! Скажут потом матери – видно, бражки перепила девка. А мать… Рука у нее тяжелая. Вон как по щеке вдарила – до сих пор красная.
Возок крытый по дороге от трапезной ехал, около ямы остановился. Подняла глаза Маша – глядь, а из возка-то плюгавец тот выходит! С бороденкой козлиной. Правду говорят, помянешь нечистого – он и объявится.
Кинулась Маша бежать – да вскрикнула вдруг. Ногу, в яму упав, подвернула.
Плюгавец кивнул кучеру. Тот нагнулся – ух и здоров же! – поднял на руки, понес к возку.
Маша уж было в крик…
– Не обижу тебя, девица, – дребезжаще, будто старик какой, промолвил плюгавец. – Знай, не хочу я на тебе жениться. И в мыслях такое не держивал – губить ваше с Ондрюшей счастие.
Вот так да! Удивилась Маша, даже рот от удивления открыла. Не заметила, как и в возке оказалась.
– Собрался я в монастырь вскорости. В дальний, Антониев-Дымский. В монасях решил жизнь свою закончить.
А вроде и не злой он… как его… Митрий Акимыч. Смотрит ласково, ровно отец родной.
– Понравились вы мне. И ты, и суженый твой, Ондрюша.
– Не суженый он мне пока.
– Ну, не суженый, так ряженый, дело молодое, знакомое… Хочу напоследок, в мирской своей жизни, дело сотворить доброе. Есть у меня знакомец на посаде дальнем, Тихвинском.
– Ой! – вскрикнула Маша, зарделась.
– Завел он мастерскую ткацкую, а прях не сыскать. Не просто так – за плату. Да при монастыре женском жить. У тебя пальчики долгие, проворные – как раз бы ему подошла. Да и для парня твоего дело найдется. У знакомца-то моего – кузня да мастерская замочная. Подмастерье рукастый нужен. Живет он хоть и небедно, да одиноко. Детушек Бог не дал, к старости некому и поддержать, в делах помочь. Ондрюша-то, говорят, замки делает?
– Делает. В учениках он у мастера Тимофея Рынкина, самого Анкудинова Никиты племянника.
– Вот и славно. Сделаю под старость доброе дело – и в монастырь. Иноческий постриг приму. По секрету скажу… Мать-то твоя, Фекла, горбуну-тиуну со Щитной хочет тебя отдать. Знаешь, горбуна-то?
– Как не знать! – Сердце Маши захолонуло от тоски. – То верно ли?
– Верно, верно. То мне сейчас только келарь Амвросий сказывал. Так поедете, с Ондрюшей?
– Поедем, батюшка! Куда хошь поедем.
– Так Ондрюша согласен ли будет?
– Согласен!
Ах, краса, прямо царевна греческая! Такую бы… Ладно, пока о том не время думать.
Митрий Акимыч поскреб бородку:
– Ты только матери не проговорись. Мы уж потом, как отъедете, сами все объясним, с Амвросием. Так что еще и благословенье ее получишь!
Благодарствую, мил человек!
Вот ведь попадаются на свете святые люди! А она-то, дура, как раньше об этом Митрии думала!..
Митря говорил что-то ласковое, пока возок ехал к Машиному дому, держал девушку за руку. Та тихо смеялась, не в силах поверить своему будущему счастью. Ну, пусть пока и не так люб Ондрюша, да парень хороший. Стерпится-слюбится.
Козлобородый Митрий теперь казался ей совсем другим – великодушным, благостным. И голос у него вовсе не дребезжащий – добрый, ласковый голос. Не видела Маша полуприкрытых веками глаз Митри – похотливых, жестоких, беспощадных.
Незадолго до того побывал он в доме у Феклы. Гостинцев привез детям, разговаривал долго. Сказывал, будто открылся в любви своей Маше и та не отвергла его. Говорил, что богат изрядно, что будет у него Маша, словно у Христа за пазухой, как и все Феклино семейство. Вот, правда, отец-келарь из монастыря Михалицкого сказывал, некий Ондрюшка-смерд, Никитки Листвянника сын, подговаривал Машу бежать. В Москву решили податься, чтоб не сыскать никогда было. Как бы не сбежала раньше времени, Маша-то.
– Ты, Фекла, о разговоре нашем ей не говори ничего. Так, присматривай иногда. А как что худое заметишь – сразу беги к келарю.