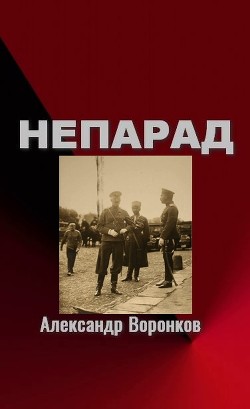дворянки из свиты царицы Марии Юрьевны и просто дворцовые челядинки. Саму дочь сандомирского воеводы Василий Шуйский своим людям трогать запретил, возможно, планируя использовать её как заложницу при переговорах. С царицы только посрывали все украшения и упрятали её под замок, приставив караул из наименее пьяных боевых холопов. Вот только переговариваться с ним никто не стал: я хорошо помнил крыловскую басню о попавшем на псарню волке. Под прицелом двух десятков стрелецких пищалей люди Шуйского сами побросали оружие, сообразив, что «фокус» с переворотом не удался, а дырки от пуль в башке не запломбируешь.
Узнав, что Фроловская башня взята и с минуты на минуту мои люди могут оказаться у дворца, свежекоронованный Шуйский-старший отчего-то решил, что сумеет укрыться от наказания под церковными сводами и бросился в Успенский собор. Там, его и отыскали, стоящего на коленях перед алтарём и истово читающего молитвы. Мешать грешнику каяться никто, разумеется, не стал. Вот только голова Кирилл Огарёв, прознав об этом, перекрыл все выходы из собора, включая и тот, который вёл из крипты, стрелецкими караулами, чтобы никто не мешал молитвам путчиста. А вокруг Шуйского встали четверо молодцов поздоровее, хоть и безоружных, — чай, не басурмане какие, чтобы в храм с саблями да пищалями врываться — но из тех, про кого говорят: «кулаки пудовые». Время шло, стрельцы сменялись, чтобы потрапезничать и передохнуть от молитвенного бдения, а мятежный боярин всё не останавливался. Лишь к исходу второго дня молитв Шуйский-старший повалился на пол, лишившись чувств от голода, жажды и страха, после чего был бережно поднят на руки и выдворён из храма в отдельный чулан-одиночку без окон…
Дмитрия Шуйского, раненого в шею шальной пулей во время боя в Кремле, опознали и также поместили под стражу, хотя в его горнице окошко всё-таки имелось. Всех прочих пленных мятежников, которых набралось больше сотни, загнали в поруба до окончания следствия. Семьи замешанных в заговоре бояр и дворян я распорядился заключить под домашний арест, предварительно обыскав их жилища и изъяв все бумаги до богослужебных книг включительно, оружие, деньги и ценности — чтобы не возникло желания бежать. Это бедняку-работяге терять нечего: накрутил онучи, затянул поясок, да пошёл волю искать на Дон или в Сибирь. Руки-ноги есть, голова на месте — на хлебушек завсегда добудет. А богатеи эмигрировать без денег не привычные. Да и кому они без нужны в заграницах без своих капиталов?
Степан
Когда Трифон предложил Стёпке — то есть, не зная о нашем с ним слиянии, по факту мне — я ничего не ответил. И вовсе не потому, что задумался, и не потому, что никаких выгод в нём не находил. Топать на малую родину пушкарёва сына, где его, а тем более меня, никто не ждёт, чтобы, если всё сложится хорошо, до скончания веку тянуть гарнизонную лямку (а ведь можно и попросту не дойти, или не получить принадлежавший семейству Тимофея Степановича домик с огородиком в слободе — ибо, откровенно говоря, сомнительно, что тамошние командиры доверят пушку необученному сопляку: стёпкин отец-то вместе со своим орудием покинул орловскую крепость, присоединившись к шедшему к Москве войску кандидата на престол, а после смерти артиллериста оно так здесь и осталось). А в столице у Степана единственный родич — дядька Глеб, тип довольно неприятный и околокриминальный, который рано или поздно — думается, всё же рано — обязательно вляпается и попадёт в руки здешних правоохранителей и почти наверняка утянет с собой племянника. А допросы здесь, если верить историческим фильмам и книгам, жестокие, с дыбой, кнутом и пытками огнём, да и наказания преступников гуманностью не отличаются. Помню, доводилось читать, что даже за простое курение трубки царь Алексей Романов приказал уличённых «кнутом бить, ноздри рвать да в Сибирь на вечное поселение высылать». Против Сибири ничего не имею, авось не страшнее Заполярья, где поработать с геологами пришлось довольно долго, а вот два предыдущих пункта радости не вызывают. Конечно, папаша Петра Первого ещё не родился, однако не думаю, что ныне действующее законодательство намного гуманнее. Так что связываться без самой крайней нужды с уголовщиной откровенно боязно, да и, думается, не затем мой разум кто-то в голову этого хлопца пересадил, чтобы тот грабил-убивал, а потом сдох под пытками или в каком-нибудь притоне от ножа собрата-урки.
Потому я сперва и не ответил Трифону, а минуту спустя стало поздно. По настилу наплавного моста застучали копыта и со стороны Замоскворечья проскакала группа конных стрельцов в таких же серых кафтанах, как и на моих собеседниках. Четверо прогалопировали мимо, а пятый осадил коня у раската:
— Ванька! Тришка! Чего лясы точите? — Закричал тот сердито. — Вот ужо голова Кирилло Григорьев [76] узрит — будет вам калачей горячих по плечам да спинам! Чтоб не позорили наш огарёвский приказ в очах Великого Государя!
— Пошто шумишь, Иване, пошто словесами разоряешься? С чего вдруг царю-батюшке наша служба не сподобится? У нас здесь, слава Господу, покойно: это эвон за Неглинною шумство да буйство с пальбою даже и пушечной учинялось, да уж кой час как стихло всё [77]. Ан там туда ходить немочно, потому как на сем месте заставой [78] поставлены. А Великому Государю во Кремлёвских палатах до нас и дела-то нет. При нём немцы службу несут, да стрельцы стремянные. — Воинов оставался совершенно спокойным, отвечая коннику ровным безразличным голосом. А вот Трифон несколько засуетился: застегнул нижние петельки кафтана, поправил кушак, поудобнее приладил за спиной длинное древко топора… Видно, упомянутый голова Кирилл — тот ещё уставник и на взыскания подчинённым не скупится.
Конный стрелец в удивлении аж полез в потылицу, сдвинув на лоб шапку:
— Нешто не ведаете? Так ведь бояре зло на Государя умыслили, воровски его до смерти убить хотяше и многих верных государевых людей животов лишили! Немцы-то расточились, токмо Господней милостью стрельцы его царское величество из лап воров спасли! И ныне Великий Государь Димитрий Иоаннович с нашим Огарёвским да с Сергеевским приказами, да с иными людьми ратными вборзе идёт воров Ваську да Митьку Шуйских, что в Кремле засели, карать, да и тех, кто их руку держит, тож. Нас сторожей ертаульной [79] послали, ан за нами и войско государево воспоследует. Э, да вон же оно! — всадник указал на противоположный берег Москвы-реки, где из Замоскворечья уже вступала на мост серая колонна стрелецкой пехоты, а дальше, на видимом от раската отрезке Большой Ордынки, виднелись какие-то знамёна, краснели кафтаны и