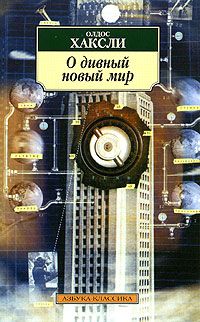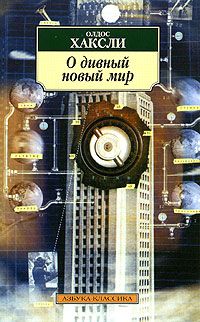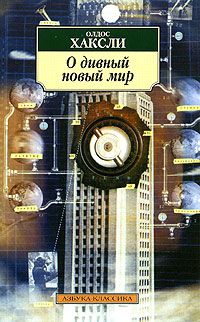— Перед стариканом Шекспиром, — признал Гельмгольц, — лучшие наши специалисты — ничто.
Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжил чтение. Все шло гладко до той последней сцены третьего акта, где супруги Капулетти понуждают дочь выйти замуж за Париса. На протяжении всей сцены Гельмгольц поерзывал; когда же, прочувственно передавая мольбу Джульетты, Дикарь прочел:
Все мое горе видят небеса
Ужели нету жалости у неба?
О, не гони меня, родная мать!
Отсрочку дай на месяц, на неделю;
А если нет, то брачную постель
Стелите мне в могильном мраке склепа,
Где погребен Тибальт.[53]
Тут уж Гельмгольц безудержно расхохотался: отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки непристойная ситуация, в высшей степени комичная. До сих пор Гельмгольцу еще удавалось героическим усилием подавлять разбиравший его смех; но «родная мать» (страдальчески, трепетно произнес это Дикарь) и упоминание о мертвом Тибальте, лежащем во мраке склепа — очевидно, без кремации, так что весь фосфор пропадает зря, — мать с Тибальтом доконали Гельмгольца. Он хохотал и хохотал, уже и слезы текли по лицу, и все не мог остановиться; а Дикарь глядел на него поверх страницы, бледнея оскорбленно, и наконец с возмущением захлопнул книгу, встал и запер ее в стол — спрятал бисер от свиней.
— И однако, — сказал Гельмгольц отдышавшись, извинясь и несколько смягчив Дикаря, — я вполне сознаю, что подобные нелепые, безумные коллизии необходимы драматургу; ни о чем другом нельзя написать по-настоящему захватывающе. Ведь почему этот старикан был таким замечательным технологом чувств? Потому что писал о множестве вещей мучительных, бредовых, которые волновали его. А так и надо — быть до боли взволнованным, задетым за живое; иначе не изобретешь действительно хороших, всепроникающих фраз. Но «отец»! Но «мать»! — Он покачал головой. — Уж тут, извини, сдержать смех немыслимо. Да и кого из нас взволнует то, попользуется парень девушкой или нет? (Дикаря покоробило, но Гельмгольц, потупившийся в раздумье, ничего не заметил). — Нет, — подытожил он со вздохом, — сейчас такое не годится. Требуется иной род безумия и насилия. Но какой именно? Что именно? Где его искать? — Он помолчал; затем, мотнув головой, сказал, наконец: — Не знаю. Не знаю.
В красном сумраке эмбрионария замаячил Генри Фостер.
— В ощущалку вечером махнем?
Ленайна молча покачала головой.
— А с кем ты сегодня? — Ему интересно было знать, кто из его знакомых с кем взаимопользуется. — С Бенито?
Она опять качнула головой.
Генри заметил усталость в этих багряных глазах, бледность под ало-волчаночной глазурью, грусть в уголках неулыбающегося малинового рта.
— Нездоровится тебе, что ли? — спросил он слегка обеспокоенно (а вдруг у нее одна из немногочисленных еще оставшихся заразных болезней?).
Но снова Ленайна покачала головой.
— Все-таки зайди к врачу, — сказал Генри. — «Прихворну хотя бы чуть, сразу к доктору лечу», — бодро процитировал он гипнопедическую поговорку, для вящей убедительности хлопнув Ленайну по плечу. — Возможно, тебе требуется псевдобеременность. Или усиленная доза ЗБС. Иногда, знаешь, обычной бывает недоста…
— Ох, замолчи ты ради Форда, — вырвалось у Лепайны. И она повернулась к бутылям на конвейерной ленте, от которых отвлек ее Генри.
Вот именно, ЗБС ей нужен, заменитель бурной страсти! Она рассмеялась бы Генри в лицо, да только боялась расплакаться. Как будто мало у нее своей БС! С тяжелым вздохом набрала она в шприц раствора.
— Джон, — шепнула она тоскующе, — Джон…
«Господи Форде, — спохватилась она, — сделала я уже этому зародышу укол или не сделала? Совершенно не помню. Еще вторично впрысну, чего доброго». Решив не рисковать этим, она занялась следующей бутылью. (Через двадцать два года восемь месяцев и четыре дня молодой, подающий надежды альфа-минусовик, управленческий работник в Мванза Мванза, умрет от сонной болезни — это будет первый случай за полстолетия с лишним). Вздыхая, Ленайна продолжала действовать иглой.
— Но это абсурд — так себя изводить, — возмущалась Фанни в раздевальне час спустя. — Просто абсурд, — повторила она. — И притом из-за чего? Из-за мужчины, одного какого-то мужчины.
— Но я именно его хочу.
— Как будто не существуют на свете миллионы других.
— Но их я не хочу.
— А ты прежде попробуй, потом говори.
— Я пробовала.
— Ну, скольких ты перепробовала? — Фанни пожала насмешливо плечиком — Одного, двух?
— Несколько десятков. Но эффекта никакого.
— Пробуй не покладая рук, — назидательно сказала Фанни. Но было видно, что в ней уже поколебалась вера в этот рецепт. — Без усердия ничего нельзя достичь.
— Усердие усердием, но я…
— Выбрось его из мыслей.
— Не могу.
— А ты сому принимай.
— Принимаю.
— Ну и продолжай принимать.
— Но в промежутках он не перестает мне нравиться. И не перестанет никогда.
— Что ж, если так, — сказала Фанни решительно, — тогда просто-напросто пойди и возьми его. Все равно, хочет он или не хочет.
— Но если бы ты знала, какой он ужасающий чудак!
— Тем более необходима с ним твердость.
— Легко тебе говорить.
— Знать ничего не знай. Действуй. — Голос у Фанни звучал теперь фанфарно, словно у лекторши из ФСЖМ,[54] проводящей вечернюю беседу с двенадцатилетними бетаминусовичками. — Да, действуй, и безотлагательно. Сейчас.
— Боязно мне, — сказала Ленайна.
— Прими сперва таблетку сомы — и все дела. Ну, я пошла мыться. — Подхватив мохнатую простыню, Фанни зашагала к кабинкам.
В дверь позвонили, и Дикарь вскочил и бросился открывать, он решил наконец сказать Гельмгольцу, что любит Ленайну, и теперь ему уж не терпелось.
— Я предчувствовал, что ты придешь, — воскликнул он, распахивая дверь.
На пороге, в белом, ацетатного атласа матросском костюме и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо, стояла Ленайна.
Дикарь так и ахнул, точно его ударили с размаха.
Полграмма сомы оказалось Ленайне достаточно, что бы позабыть колебанья и страхи.
— Здравствуй, Джон, — сказала она с улыбкой и прошла в комнату.
Машинально закрыл он дверь и пошел следом. Ленайна села. Наступило длинное молчание.