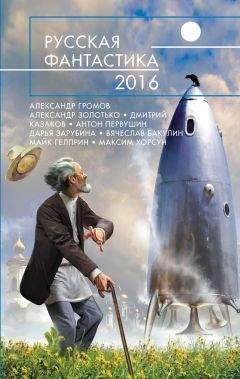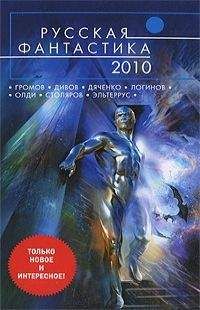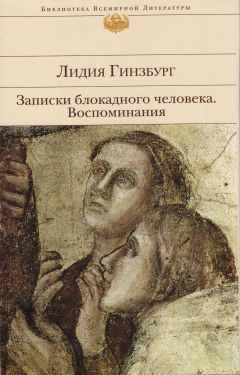7
А там она вытянулась поверх его целомудренного спальника, убрав сцепленные в замок ладони под затылок, а он, дрожащий, потеющий, задыхающийся, положил свою трепещущую лапу на тонкую Настину лодыжку, скользнул выше, выше, до заветного колена, и юбка ее ощетинивалась складками, а длинные, бессердечно длинные ноги никак не кончались, и тогда она, сжалившись, расстегнула потайную пуговичку, на которой, видишь ли, все и держалось, а больше там ничего и не было, и сама вжикнула молнией Бусиковых брюк, поощрительно проведя по его естеству – в чем, признаться, не было никакой надобности, одна приятность, – и с тихим смешком застонала, успев проговорить лишь, что у нее все под контролем, что он может расслабиться и ни о чем не думать, а все дальнейшее, все их извивы и покусывания, и быстрый шепот, и сдавленные вскрики – один, другой, третий, четвертый – никого, кроме них, уже совершенно не касаются.
Потом Настя погладила редкие Бусиковы волосы и он, уже спящий, судорожно подался вперед, будто все еще продолжал быть в ней, затем подхватила нехитрый свой наряд и вышла в ночь. Легкий бриз подтолкнул ее к берегу, и Настя, не в силах противиться, спустилась к пустынному пляжу. Движения ее были ломки, а взгляд из-под сведенных бровей с каждым шагом вновь обретал присущую ему обычно диковатую отстраненность. У самой кромки Настя протянула к воде ногу, позволив набегающей волне лизнуть кончики пальцев, провела ладонью по левой груди, слегка задержавшись на сосце, и наконец решившись, сделала несколько быстрых шагов, перед тем как нырнуть.
Отплыв на показавшееся ей достаточным расстояние, Настя перевернулась на спину и раскрылась навстречу морю – бесконечному, ласковому, неутомимому.
И стало утро.
Полог палатки, обезопасенный нежной сеткой от насекомой бестактности, отдернулся, и миру явился Бусик. Бусик новый, Busicus novis – как наверняка определил бы его досужий рубрикатор на своей заемной латыни. Но и тот не посмел бы прибавить к сочиненному им таксону уточнение vulgaris, ибо ничего, совсем ничего обыкновенного тут не было. То был Бусик счастливый, Бусик устремленный, Бусик сияющий (lucetis! – пискнул бестактный классификатор, но на него зашикали) – словом, Бусик той стадии разделенной влюбленности, когда грядущее мнится упоительно прозрачным на много-много лиг и лет вглубь, а любые мыслимые препоны суть не более чем стилистическая фигура, употребленная не к месту.
Он бодро принял душ, избавившись от сладкой испарины и Настиного запаха – но не памяти о нем; бодро уплел рисовую кашу с зажаренным рыбьим хвостом, запив завтрак стаканом чая приятно-коньячного колеру; бодро осведомился о назначенном для него участке работ (расчистка вскрытого несколькими днями ранее скифского захоронения, вполне заурядного, но бывали, знаете ли, прен-цен-денты).
Последнее дало ему повод спросить о Насте, чьи карандаш и блокнот могли, при известной снисходительности фортуны, оказаться при деле. Настя, однако, уже была ангажирована командующим на руинах капища Деметры Саакянцем, так что Бусику, плетущемуся позади загорелых, белозубых и голоногих студентов, оставалось лишь утешать себя тем, что шесть часов не срок, а досадная заминка, после которой воссоединение окажется лишь слаще.
И точно: работа захватила его. Первый же час копа принес останки ножа с прекрасно сохранившейся костяной рукоятью, с мелкой резьбой охотничьих сцен – и Бусик задохнулся, воображая, как Настя склонится над ней, перенося оставленные резчиком извивы на бумагу.
Наконец скомандовали шабаш. Хабар надежно упаковался в контейнеры, кои Бусик, разумеется, не доверил бы никому, в тачку запрыгнула рысьеглазая сибирячка Людмила – и с тем же веселым гомоном и грохотом неутомимая ватага сыпанула обратно в лагерь.
Однако и тут трогательной сцены не вышло: Настю мигом взяли в оборот, определив фиксировать исторгнутые из небытия реликвии.
Добыча, точно, была доселе невиданная: россыпь гемм времен едва ли не Перикловых, одна другой краше. Саакянц, удачник, триумфатор, выступал фертом, но тут же забывался, начинал кудахтать вокруг сокровищ, охаживая любопытствующих ревнивым взглядом. Громадный, мохнатый, нависал он над Настей истинным абреком.
Бусик изнывал поодаль, не смея приблизиться, покуда наконец его не погнали трапезничать. Обеденный кусок не лез в горло.
После – после опять завертелось.
От отчаяния Бусик вызвался было помогать с установкой лагерного эпископа – особенного проектора, позволяющего укладывать на предусмотрительно запасенную простыню Настино рукоделие – что в глазах пламенеющего любовника делало аппарат чуть ли не сводней в церковных чинах. Помощь его, впрочем, свелась лишь к потере одного из крепежных винтов – к счастью, благополучно обнаруженного рукастым Витей. После этого казуса Бусика мягко, но непреклонно от работы отстранили, позволив, впрочем, развлечь непосредственного исполнителя беседой.
Бусик, терзаемый страстями, но помнящий о том, что должен ступать осторожно, через сбираемый эпископ, через предназначенные ему в прокорм рисунки, свел разговор на их автора.
Докладчик, пусть и несколько сбивчиво, остановился на художественных дарованиях предмета, отметил важность такого человека для всей экспедиции; отдельно упомянул всеобщую симпатию, кою она вызывает у товарищей; наконец перешел к перечню человеческих ее достоинств и незаурядным внешним данным.
– Настя-то? – протянул Витя, ловко затягивая очередной барашек. – Настюха – девка хоро-ошая. Главное, не вредная.
Тут он как-то особенно гадко подмигнул недоуменному, перебитому Бусику, сумевшему от растерянности выдавить из себя лишь переспросительное междометье.
– Я говорю, ценный кадр. Ну-ка, придержи штативчик.
Покорный Бусик безропотно принял конструкцию, меж двух частей которой поблескивала только что установленная линза.
– Короче, если что – имей в виду… Э-э, аккуратнее!
Неиссякаемый умелец, одолевший-таки наконец проектор, подхватил зыбко эквилибрирующий, теряющий равновесие, совершенно позабытый Бусиком штатив, буркнув вслед ссутуленной спине неразборчивое, неуслышанное осуждение.
Бусик, собственно, так и не понял, что такого говорил ему этот, в общем, приятный парень, однако слушать дальнейшие его излияния не хотелось абсолютно, будто сам разговор о Насте, ведомый с такими интонациями, способен был принизить все то, что люминесцировало нынче из самых глубин Бусиковой души.
На сердце отчего-то вдруг стало нехорошо. Бусик еще острее почувствовал, насколько ему нужно – необходимо! – увидеть Настю сию секунду, немедленно, а все геммы и остраконы могут провалиться в Тартар к породившим их грекам.
Потерявшей след псиною принялся он кружить меж палаток, выглядывая среди разномастых панам и бейсболок белокурую головку – и наконец обрел ее, выбирающуюся кое-как из стоящей чуть на отшибе полубочки. Как всякий интроверт, Бусик менее всего интересовался топологией лагеря и, разумеется, понятия не имел о том, кто из экспедиционного люда где квартирует. В ту минуту, впрочем, его это интересовало даже менее обычного, и он скоренько двинулся к цели.
– Привет! – просиял он, преодолев наконец разделявшие их полсотни метров. – Привет!
И не было боле ни томительных ожиданий, ни щелоком грызущей тоски, ни чьих-то – он уже не помнил, чьих – гадких слов. Он нашел Настю, свою Настю, чудесную, необыкновенную, самую, для него одного предназначенную, ему дарованную, такую…
– Привет, – отозвалась все еще не разогнувшаяся, не до конца выпроставшаяся из палатки, розовеющая, обожаемая Настя, и снова неуловимый взгляд ее блуждал где-то там, в иных, ей одной видимых далях.
Бусик задохнулся в безнадежной попытке отыскать слова, способные передать всю его нежность, его тоску и стремление, закончившееся его одиночество, его счастье, счастье, сча…, как изнутри палатки послышалось движение и Саакянц, отодвинув своею тушею замешкавшуюся Настю, выполз на свет, хрустко потянулся и, больно кольнув Бусика разбойничьим глазом, удалился, на ходу застегивая джинсы.
Он все еще ничего не понимал, бедный мой стебельчатоглазый моллюск, сбросивший в наивной, несбыточной надежде такую уютную, такую тесную, такую одинокую свою раковину, добровольно отдавший на растерзание бледного, мягкого, совершенно беззащитного себя, поманенного невесть как проникшим сквозь перламутровую броню, неверно расслышанным обещанием.
Кажется, он все-таки начал косноязычное, сбивчивое свое, весь день репетируемое объяснение того, как произошедшее меж ними перевернуло его жизнь, его самого, весь его мир – и сам осекся, чувствуя бесполезную неуместность произносимых слов.
– Бусик, – сказала Настя, скользнув ладонью по пылающей его щеке, не глядя в глаза. – Глупый хороший Бусик. Это ведь совсем ничего не значит.
Снова появился Саакянц, взял Настю за плечо, что-то сказал на ухо. Та высвободилась, быстро зыркнула на обоих – и пошла вечною своей сомнамбулической равнодушной походкой, помахивая висящей у локтя котомкой с рисовальными принадлежностями, куда-то в сторону заходящего южного солнца, тоненькая, с опущенными плечами, и налетевший порыв ветра, закрутив подол разноцветной юбки, на мгновение очертил бесподобные, совершенные, душераздирающие, ненасытные ее бедра.