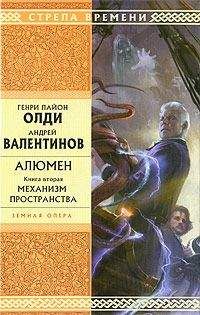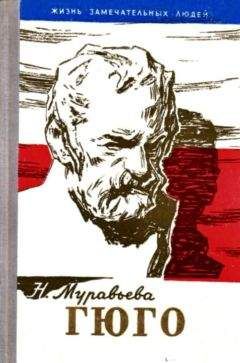– Эти джентльмены в курсе дела, Гейбриел. Вы можете говорить прямо.
Дворецкий, одетый в красную ливрею с золотыми позументами, был похож скорее на фельдмаршала, чем на распорядителя. Приказ «говорить прямо» сразу понизил его в чине. Даже великолепные бакенбарды, ранее стоявшие торчком, обвисли.
– Она снова приходила, сэр, – дворецкий понизил голос до трагического шепота. – Ей показалось, что новое платье не к лицу леди Анне…
– Новое платье?
– Да, сэр. Вы же знаете, я понимаю немецкий. Она сказала, что рюши и воланы – излишняя вольность. Девушке из приличной семьи надо быть скромнее и экономить деньги мужа. А кашемировой шали место на помойке. Она так и сказала, сэр – на помойке. Модистка лишилась чувств, а следом – и леди Анна…
– Там есть кто-нибудь, кто остался в сознании?
– Конечно, сэр! Миссис Уоррен, компаньонка, и Мэгги, служанка. Мэгги принесла нюхательные соли…
– Я хочу видеть мою дочь! Немедленно!
– Да, сэр. Как представить джентльменов, приехавших с вами?
– Гейбриел, вы идиот! Кому вы собираетесь их представлять, если Анна в обмороке? Компаньонке?
– Простите, сэр. Трудно сохранять здравый рассудок, когда… Я провожу вас.
Следуя за дворецким, Натан уже жалел о вспышке гнева. Он, с равнодушной улыбкой наблюдавший крах финансовых империй, вспылил в разговоре с беднягой Гейбриелом. Да еще в присутствии чужих людей!
«Ах, мама, что ты со мной делаешь? Что ты делаешь со всеми нами…»
Леди Анна лежала на кушетке возле растопленного, несмотря на летнюю жару, камина. Совсем молоденькая, почти девочка, она была прелестна – и вызвала бы сочувствие даже у закоренелого мизантропа. Возле хозяйки дома хлопотали две дамы средних лет; впрочем, без особого результата. На крошечном диванчике в углу скорчилась, охая, но не открывая глаз, пухленькая модистка – вторая жертва призрака.
– Позвольте, герр Ротшильд, – твердая рука отстранила банкира. – С вашего позволения, я хотел бы осмотреть вашу дочь.
Натан поймал себя на желании подчиниться. Переложить бремя ответственности на чужие плечи – что может быть слаще? И, как всегда в таких случаях, он не позволил себе эту слабость.
– Вы врач, герр Эрстед? Насколько мне известно…
– Нет, я не врач. Но я много лет был учеником известного врача. Вам что-нибудь говорит имя Франца Месмера?
– Что вы понимаете под осмотром?
– Не волнуйтесь, я ни на шаг не выйду за рамки приличий…
«Шарлатан!» – банкир вздохнул с облегчением. Имя Месмера ему говорило многое. Взлет и падение австрийского доктора-фокусника пришлись на детские годы Натана, но он хорошо помнил сплетни, гулявшие в те дни по Франкфурту. Как помнил и выводы комиссии, утверждавшие, что жертв месмеризма ждут всякие ужасы – например, конвульсии и уродливое потомство.
– Я… категорически…
Он хотел возразить и не смог. Позднее Натан скажет жене, что датчанин смотрел ему в лицо, и взгляд Эрстеда был полон власти и сочувствия. «Я не мог ему противиться», – сообщит банкир, словно извиняясь, и солжет. В действительности Эрстед, не слушая возражений, сразу прошел к кушетке, словно хирург – к операционному столу, и дамы послушно уступили ему место рядом с леди Анной.
– Князь, передайте мне магниты.
Натан не уловил момента, когда в руках датчанина появились два черных магнита. Головная боль усилилась; сжимая ладонями виски, банкир сел в кресло, заскрипевшее под его весом. «Я слишком тучен. Врачи рекомендуют диету; бульоны, красное вино, дичь… – краем глаза он следил, как Эрстед водит магнитами над бесчувственным телом дочери. Казалось, датчанин расчерчивает карту, намечая будущий маршрут путешествия. – Нельзя столько работать. Надо поехать на воды. Боже, о чем я думаю?!»
– Герр Ротшильд! Вы слышите меня?
– Да, – ответ дался с трудом. – Слышу.
– Ваша дочь на грани нервного истощения. Я бы рекомендовал начать с сеанса…
– Ерунда, – прервали Эрстеда из камина. – Женщины нашей семьи крепче дубленой кожи. А лекари-пустобрехи только денежки горазды тянуть. Слушайся бабушку, Анеле, и доживешь до ста двадцати лет.
В огне соткалось лицо. Старуха лет семидесяти с недовольством поджимала губы, отчего рот превращался в куриную гузку. Глаза под мощными дугами бровей сверкали, как раскаленные угли. Трепетали ноздри большого, мясистого носа. Вокруг лица пламя сплеталось кружевами, бантами и лентами – чепец, похожий на архитектурное сооружение, воротничок платья…
– Мама! – еле слышно простонал Натан.
– Что «мама»? Конечно, мама лучше знает. Анеле, курочка моя, гони докторишек в шею. Бабушка нагреет тебе молока с козьим смальцем, и все пройдет. Ишь, взяли моду! – за каждую микстуру ящик золота… Я принесла твоему деду две с половиной тысячи флоринов приданого. Не бог весть какие деньги, но твой дед знал, как ими распорядиться. Если бы мы тратили их на микстуры всякий раз, когда я чихала, ты бы сейчас жила не в Лондоне, а во франкфуртском гетто!
– Мама! – взмолился банкир. – Границы гетто отменили двадцать лет назад!
– Помолчи, Натан. Ты – умный мальчик, но ты ничего не смыслишь в женских делах. Анеле, бабушка дурного не посоветует. Во-первых, твоя модистка тебя обворовывает. Во-вторых, зачем тебе компаньонка, если у тебя есть я?
Эрстед едва успел подхватить обеспамятевшую компаньонку. С помощью служанки – на увольнении Мэгги бабушка Гутла, к счастью, не настаивала, хотя и напомнила про две серебряные ложки – он уложил несчастную на ковер, подсунув ей под голову свободную подушку с дивана.
– Князь, турмалиновые щипцы!
Банкиру, с трудом балансирующему на грани обморока, совершенно неприличного в дамском обществе, представилось страшное. Сейчас черный славянин выхватит из саквояжа огромные щипцы, все в ржавчине, швырнет их Эрстеду – и тот станет щипцами выволакивать из камина огненную маму, подобно тому, как выдирают из челюсти гнилой зуб.
На его счастье, Эрстед передумал:
– Нет, щипцы не надо. Они окрашивают луч… Дайте призму Николя!
Невозмутимый Волмонтович раскрыл саквояж и извлек оттуда детскую игрушку. Во всяком случае, так показалось Натану. Две пирамидки из исландского шпата, тщательно отполированные, были склеены друг с другом – и ярко блестели, отражая огонь в камине.
– Кто-нибудь! Задерните шторы!
Служанка рыдала над компаньонкой. У входа, прикидываясь мебелью, каменел дворецкий. Леди Анна лежала без движения, словно ее испанская тезка – в присутствии статуи Командора.
– Нет, князь, не вы! Вы можете мне понадобиться. Герр Ротшильд, не сочтите за труд…
Банкир подчинился. Испытывая удивительное облегчение – даже головная боль прошла! – от того, что можно делать простые, незамысловатые вещи, отдав право решать другому человеку, он вооружился длинным шестом и плотно задернул темно-зеленые шторы.
– Молодец! – одобрила мама из камина. – Я всегда говорила, что половину слуг можно разогнать. Кормить такую ораву…
В комнате стало темно. Лицо старухи, вобрав почти весь огонь, пляшущий на дровах, давало мало света. Присев на корточки у каминной решетки, датчанин взял кочергу и без стеснения разворошил угли, усиливая приток воздуха. Старуха оставила бесцеремонный жест без комментариев. Похоже, она вообще не замечала Эрстеда. Пользуясь этим, тот вертел призмой, как хотел, жонглируя крошечной радугой и следя за изменениями цветовой гаммы.
Что он хотел высмотреть, осталось для Натана загадкой.
Когда дальний край радуги коснулся леди Анны, молодая женщина застонала. Сознание, вне сомнений, вернулось к ней. Вместе со стоном огонь вспыхнул ярче, рассыпая искры. Бабушка Гутла хотела предупредить сына, чтоб берегся пожаров, иначе пойдет по миру – и не успела.
Камин погас.
– Герр Ротшильд! – раздался в темноте суровый голос датчанина. – Прошу вас, выйдите на минутку в коридор. Я последую за вами. Князь, отдерните шторы. Уже можно…
– Зачем вы солгали мне? – спросил Эрстед, когда они остались с банкиром наедине. – Кажется, я ничем не способствовал такому отношению.
Портреты вельмож, украшавшие стены коридора, с осуждением смотрели на Ротшильда из золоченых рам. «Ох уж эти денежные мешки…» – несся язвительный шепот. «А что делать? – со вздохом отвечали те, кто был посовременнее. – Если чин полковника кавалерии стоит двадцать тысяч фунтов…»
– Солгал? Я?
– Да. Почему вы сразу не предупредили меня, что ваша мать жива?
– Моей матери семьдесят пять лет. Она живет во Франкфурте, в Grünes Schild – доме моего отца. Дом стоит в черте бывшего гетто. Уговорить маму переехать было невозможно. Я сказал: «живет»… Это не вполне верно, герр Эрстед. Со дня свадьбы Анны она умирает. Братья считают, что от старости, но я-то знаю… В ее роду все – долгожители. Здоровье мамы дало трещину в тот миг, когда ее призрак впервые посетил имение Фицроев. Я даже не знаю, жива ли она в данный момент. Каждую секунду я жду сообщения о ее смерти.