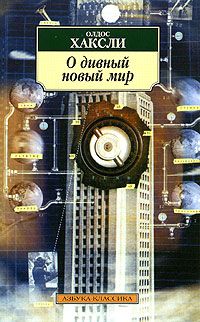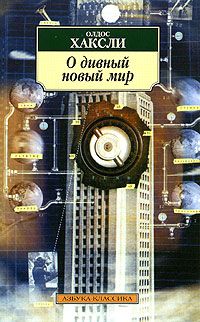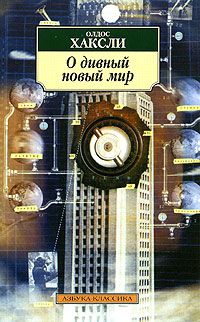— Но, Линда! — произнес Джон. — Неужели ты не узнаешь меня? — Так мучительно он гонит от себя былую мерзость; почему же у Линды опять Попе на уме и на языке? Чуть не до боли сжал Дикарь ее вялую руку, как бы желая силой пробудить Линду от этих постыдных утех, от низменных и ненавистных образов прошлого, вернуть Линду в настоящее, в действительность; в страшную действительность, в ужасную, но возвышенную, значимую, донельзя важную именно из-за неотвратимости и близости того, что наполняет эту действительность ужасом. — Неужели не узнаешь меня, Линда?
Он ощутил слабое ответное пожатие руки. Глаза его наполнились слезами. Он наклонился, поцеловал Линду.
Губы ее шевельнулись.
— Попе! — прошептала она, и точно ведром помоев окатили Джона.
Гнев вскипел в нем. Яростное горе, которому вот уже дважды помешали излиться слезами, обратилось в горестную ярость.
— Но я же Джон! Я Джон! — И в страдании, в неистовстве своем он схватил ее за плечо и потряс.
Веки Линды дрогнули и раскрылись; она увидела его, узнала — «Джон!» — но перенесла это лицо, эти реальные, больно трясущие руки в воображаемый, внутренний свой мир дивно претворенной супермузыки и пачулей, расцвеченных воспоминаний, причудливо смещенных восприятий. Это Джон, ее сын, но ей вообразилось, что он вторгся в райский Мальпаис, где она наслаждалась сомоотдыхом с Попе. Джон сердится, потому что она любит Попе; Джон трясет ее, потому что Попе с ней рядом в постели, — и разве в этом что-то нехорошее, разве не все цивилизованные люди так любятся?
— Каждый принадлежит вс…
Голос ее вдруг перешел в еле слышное, задыхающееся хрипенье; рот раскрылся, отчаянно хватая воздух, но легкие словно разучились дышать. Она тужилась крикнуть — и не могла издать ни звука; лишь выпученные глаза вопили о лютой муке. Она подняла руки к горлу, скрюченными пальцами ловя воздух, — воздух, который не могла уже поймать, которым кончила уже дышать.
Дикарь вскочил, нагнулся ближе.
— Что с тобой, Линда? Что с тобой? — В голосе его была мольба; он словно хотел, чтобы его разуверили, успокоили.
Во взгляде Линды он прочел невыразимый ужас и, как показалось ему, упрек. Она приподнялась, упала опять в подушки, лицо все искажено, губы синие.
Дикарь кинулся за помощью.
— Скорей, скорей! — кричал он. — Скорее же!
Стоявшая в центре игрового круга старшая сестра обернулась к Дикарю. На лице ее мелькнуло удивление и тут же уступило место осуждению.
— Не кричите! Подумайте о детях, — сказала она, хмурясь. — Вы можете расстроить… Да что это вы делаете? (Он ворвался в круг). Осторожней! (Задетый им ребенок запищал).
— Скорее, скорее! — Дикарь схватил ее за рукав, потащил за собой. — Скорей! Произошло несчастье. Я убил ее.
К тому времени, как он вернулся к материной постели, Линда была уже мертва.
Дикарь застыл в оцепенелом молчании, затем упал у изголовья на колени и, закрыв лицо руками, разрыдался.
В нерешимости сестра стояла, глядя то на коленопреклоненного (постыднейшая невоспитанность!), то на близнецов (бедняжки дети!), которые, прекратив игру, пялились с того конца палаты, таращились и глазами, и ноздрями на скандальное зрелище. Заговорить с ним? Попытаться его урезонить? Чтобы он вспомнил, где находится, осознал, какой роковой вред наносит бедным малюткам, как расстраивает все их здоровые смертонавыки этим своим отвратительным взрывом эмоций… Как будто смерть — что-то ужасное, как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать! У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексы и реакции.
Подойдя вплотную к Дикарю, она тронула его за плечо.
— Нельзя ли вести себя прилично! — негромко, сердито сказала она. Но тут, оглянувшись, увидела, что игровой круг распадается, что полдесятка близнецов уже поднялось на ноги и направляется к Дикарю. Еще минута, и… Нет, этим рисковать нельзя; смертовоспитание всей группы может быть отброшено назад на шесть-семь месяцев. Она поспешила к своим питомцам, оказавшимся под такой угрозой.
— А кому дать шоколадное пирожное? — спросила она громко и задорно.
— Мне! — хором заорала вся группа Бокановского. И тут же кровать № 20 была позабыта.
«О Боже, Боже, Боже…» — твердил мысленно Дикарь. В сумятице горя и раскаяния, наполнявшей его мозг, одно лишь четкое осталось это слово.
— Боже! — прошептал он. — Боже…
— Что это он бормочет? — звонко раздался рядом голосок среди трелей супермузыки.
Сильно вздрогнув, Дикарь отнял руки от лица, обернулся. Пятеро одетых в хаки близнецов — в правой руке у всех недоеденное пирожное, и одинаковые лица по-разному измазаны шоколадным кремом — стояли рядком и таращились на него, как мопсы.
Он повернулся к ним — они дружно и весело оскалили зубки. Один ткнул в Линду недоеденным пирожным.
— Умерла уже? — спросил он.
Дикарь молча поглядел на них. Молча встал, молча и медленно пошел к дверям.
— Умерла уже? — повторил любознательный близнец, семеня у Дикаря под локтем.
Дикарь покосился на него и, по-прежнему молча, оттолкнул прочь. Близнец упал на пол и моментально заревел. Дикарь даже не оглянулся.
Низший обслуживающий персонал Парк-лейнской умиральницы состоял из двух групп Бокановского, а именно из восьмидесяти четырех светло-рыжих дельтовичек и семидесяти восьми чернявых длинноголовых дельтовиков. В шесть часов, когда заканчивался их рабочий день, обе эти близнецовые группы собирались в вестибюле умиральницы, и помощник подказначея выдавал им дневную порцию сомы.
Выйдя из лифта, Дикарь очутился в их гуще. Но мыслями его по-прежнему владели смерть, скорбь, раскаяние; рассеянно и машинально он стал проталкиваться сквозь толпу.
— Чего толкается? Куда он прется?
Из множества ртов (с двух уровней — повыше и пониже) звучали всего лишь два голоса — тоненький и грубый. Бесконечно повторяясь, точно в коридоре зеркал, два лица — гладкощекий, веснушчатый лунный лик в оранжевом облачке волос и узкая, клювастая, со вчера небритая физиономия — сердито поворачивались к нему со всех сторон. Ворчанье, писк, острые локти дельт, толкающие под ребра, заставили его очнуться. Он огляделся и с тошнотным чувством ужаса и отвращения увидел, что снова его окружает неотвязный бред, круглосуточный кошмар роящейся, неразличимой одинаковости. Близнецы, близнецы… Червячками кишели они в палате Линды, оскверняя таинство ее смерти. И здесь опять кишат, но уже взрослыми червями, ползают по его горю и страданию. Он остановился, испуганными глазами окинул эту одетую в хаки толпу, над которой возвышался на целую голову. «Сколько вижу я красивых созданий! — поплыли в памяти, дразня и насмехаясь, поющие слона. — Как прекрасен род людской! О дивный новый мир…»[63]