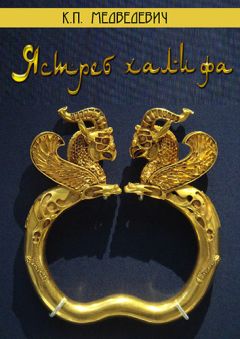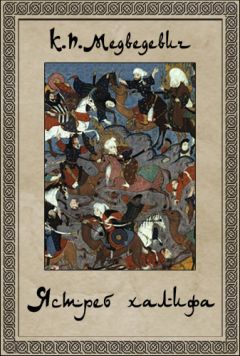— Быстрее!… Быстрее!… Не успеете до рассвета к устью — придется караулить эту ораву еще целый день!
Дуад похолодел: он все надеялся, что сторожившие и приносившие им в подвал еду воины молчат и отводят глаза из-за чего-то другого. Теперь он понял — их везут к плавням Ваданаса, туда, где он впадает в озеро Джейхан. И у него больше не оставалось никаких сомнений, зачем их туда везут. Дуад в отчаянии начал рваться в путах — совершенно бесплодно, впрочем.
…Топот идущих галопом коней слышался совсем ясно. Не одна лошадь — несколько, круглые копыта дробно молотили в камни дороги. Топот поравнялся с их фургоном и Дуад про себя взмолился: "О Всевышний! Пошли нам помощь! Пусть эти всадники спасут нас! Пожалуйста, вы, те, кто едет мимо! Пожалуйста, спасите меня! Спасите нас! Спа-сии-и-те!!" По лицу у него давно текли слезы, мешок под щекой весь промок. Конечно, никто их не спасет. Глупость какая…
Топот остановился.
Лошадь, которую явно осаживали удилами, заржала и замолотила копытами.
Фургон остановился следом, заржали кони, повозку тряхнуло. Кругом заорали и забегали:
— Эй! Эй! Что такое? Чего встали? Эй, а вы что тут делаете?!
Лошадь топталась совсем рядом с фургоном, звенело оружие:
— А ну проезжай! Пошел прочь, я сказал, грязный деревенщина! Проезжай, я ска…
Человек снаружи не успел договорить — что-то коротко свистнуло. И человек захрипел. Дуаду уже приходилось слышать такой хрип. Так выходит воздух из рассеченного горла.
— Бросай оружие! Шайтан!..
И тут Дуад похолодел. Потому что снаружи раздался голос, который он тоже слышал раньше. В масджид. Нечеловеческий, звенящий бронзой голос:
— Кто вы такие? Куда вы направляетесь и что в этих фургонах?
— Сейид… — кто-то потрясенно выдавил из себя.
— Я что, тихо спрашиваю?
Еще перестук копыт и звон металла. Голос, подгонявший возниц к устью, теперь звучал почтительно… и испуганно:
— Мы выполняем приказ повелителя верующих, о сейид…
— Открывайте.
— Но сейид…
Этот звук Дуад тоже знал. Его издавал длинный гибкий клинок, когда отец встряхивал его после чистки.
— Открывай полог.
Полотнище у него в головах хлопнуло. Даже сквозь плотное джутовое плетение мешка Дуад почувствовал над собой свет факела.
Он успел только ахнуть про себя, когда над ним что-то несколько раз свистнуло, невесомо толкаясь в тело там, где его стягивали веревки — и мешок сдернулся с головы. Ослепленный огнем факела, Дуад перевернулся на живот и, щурясь слезящимися глазами, попытался разглядеть стоявшее над ним существо.
— Это то, что я думаю?
Голос прозвучал, как шипение кобры, и Дуад упал на свое лицо.
— Сейид, это приказ хали…
Свистнуло. Когда по затылку потекло что-то горячее, Дуад всхлипнул сквозь стягивавшую ему рот повязку и потерял сознание.
Аммара весь этот вечер мутило так, что он даже отказался от ужина. Сердце оттягивалось куда-то в низ живота, а в образовавшейся на его законном месте муторной пустоте шевелилось что-то скользкое и склизкое. Халиф Аш-шарийа мог утешаться лишь тем, что к утру все, что так его тяготило, станет прошлым — а о прошлом не стоит жалеть, все равно ничего не изменишь.
С балкона на втором этаже башни он смотрел на дворики разоренного харима: в течение двух последних дней там стоял такой крик и плач, что в аль-касре никто не мог толком ни есть, ни спать. Сейчас в темноте вечера слышался лишь плеск фонтанов и шебуршание голубей и воробьев в кипарисах и пальмах. В воде прудов отражался свет факелов и ламп — впрочем, пять окруженных галереями двориков женской половины оставались погруженными во тьму. Разве что изредка можно было заметить плывующий вдоль воды огонек свечи. Теперь там было тихо.
…Сначала в харим наведались смотрители в сопровождении солдат. Переполох и крик поднялись такие, что, казалось, рухнет купол дворцовой масджид. Рассказывали, что когда два века тому назад аль-каср Куртубы заняли войска мятежника Зухайра ибн Аби Сульма, даже они не посмели взломать двери на женскую половину. Когда женщины поняли, зачем пришли солдаты, крик сменился горестными стонами, мольбами о пощаде и плачем. Аммар про себя вознес благодарность Всевышнему за то, что Умейяды, судя по всему, предпочитали не жениться на родовитых ашшаритках, а брать себе на ложе невольниц. Воины увели в подвалы городской тюрьмы лишь двенадцать женщин — трех вдов Абд-аль-Вахида и овдовевших после недавних казней супруг двоих его младших братьев, троих сыновей и четверых племянников. Впрочем, их так или иначе пришлось бы схватить: молодые матери с джамбиями бросались на воинов халифа, пытаясь защитить сыновей. Мальчиков — а их набралось много, гораздо больше, чем насчитал ибн Хальдун, целых пятнадцать душ, — повели в тюрьму вслед за женщинами.
Еще пятерых жен Бени Умейя людям ибн Хальдуна выдали горожане — причем выдали вместе с детьми. Несчастные пытались найти убежище у купцов, которым их мужья в свое время ссужали деньги, — а те, прослышав о награде за поимку жен мятежников и их детей мужского пола, связали тех шнурками от их же шальвар и привели в лавки городскую стражу. Когда печальную вереницу стонущих женщин и рыдающих детей гнали к дверям в зиндан, весь город утирал слезы. Тайной страже показали еще на четверых мальчишек, прятавшихся в домах вольноотпущенников Бени Умейя — те тщетно надеялись выдать их за своих детей. Люди, собравшиеся посмотреть на юных пленников, цокали языками и показывали пальцем, одобрительно кивая: да разве можно перепутать таких красивых знатных отроков с потомством какого-то презренного простолюдина?
А затем в харим наведались свахи в красных одеждах: всех невольниц приказано было отвести на продажу, а наложниц взять из дворца и выдать замуж на окраины и в джунгарские степи. Женщинам не разрешили взять с собой дочерей — тех, кто уже пришел в брачный возраст, уже осматривали и ощупывали свахи, а остальные были слишком малы для дальних дорог, да и вовсе не нужны новым мужьям, которым предназначались их матери, — так что стон и крик стоял ужасающий: женщины рыдали, обнимаясь и прощаясь на веки вечные, плакали дети, заходились в крике младенцы. Когда свахи и их вооруженные гулямы закончили распихивать по паланкинам несчастных девушек, а смотрители харима передали стонущих невольниц торговцам, на дворец опустились сумерки. На женской половине остались лишь кормилицы с младенцами, рабыни-прислужницы и совсем маленькие девочки, которым еще не закрыли лица.
Аммар стоял на балконе и думал, что правильно поступил, не оставив при себе ни одной женщины из этих погруженных в скорбное оцепенение пяти дворов: он бы не смог притронуться к невольнице, зная, что ее прежнего господина он приказал три дня назад обезглавить на площади, подруг отвести на рабский рынок, а детей утопить или продать в чей-то харим.
Когда сегодня в полдень из дверей тюрьмы, грохоча, выехало пять фургонов с наглухо закрытыми пологами, люди старались отводить глаза и не смотреть, как проезжают, трясясь на булыжнике, страшные повозки. Из некоторых можно было услышать тихий плач и стоны, но редкие прохожие, которые, несмотря на полуденный зной, еще попадались на улицах медины, отворачивались и старались всем видом показать, что заняты своими делами.
…Под балконом колыхались на ночном ветерке резные ветви финиковой пальмы. Аммар глубоко вздохнул. Ему еще ни разу так страстно не хотелось увидеть утро — утром весь этот кошмар кончится.
Тут за дверями в его комнаты раздался грохот и крики. И голос Хисана:
— Куда?! Куда ты ломишься, о бедствие из бедствий?! — и его же заполошное: — Господин! Господин! Тут самийа!…
Оборвавшийся голос и новый грохот известил Аммара о том, что его доверенный невольник скорее всего укатился вниз по лестнице башни, грохоча боками как пустой кувшин.
Вздохнув — испортить сегодняшний вечер не мог даже Тарик, хуже на душе все равно уже не будет, — Аммар прошел сквозь полотнища занавесей обратно в комнату. Через мгновение в нее влетел разъяренный самийа. Запнувшись в середине комнаты о столик для письма, нерегиль поддал по нему ногой и злобно заорал, потрясая кулаками.
Примерно этого Аммар и ожидал: сначала нерегиля мучил его странный магический недуг, потом три дня Тарик просидел затворником у себя в комнатах, видно, горюя по замученной аураннке, а сегодня с утра забежал к старшему катибу — кстати, как раз занятому составлением списков приговоренных к смерти — о чем-то с ним переговорил и исчез из города неизвестно куда. Теперь самийа, видно, обнаружил, чем занимались все эти дни Аммар со своим вазиром — и решил проявить свою чистоплюйскую натуру.
— Как ты мог?! — Тарик метался по комнате, подобно самуму, сбрасывая на пол все, что попадалось под руку.
Устало вздохнув, Аммар шлепнулся на гору бордовых с золотом майасир, наваленных у балконного входа.