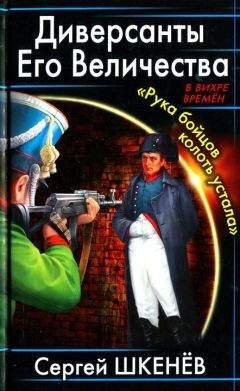— Курьера достаточно.
— Но Александр Христофорович будет нынче на совещании.
— А мы куда-то торопимся? Благородное искусство шпионажа суеты не терпит.
Да, господа-товарищи, хороший шпионаж много чего не любит. А вот мне в последнее время нравится с самым серьезным видом произносить заведомые глупости и рассказывать бородатые анекдоты. Волнуюсь, наверное, в преддверии большой войны и пытаюсь спрятать неуверенность за шутками. Боюсь? Скорее всего так и есть — полководец из меня аховый, и больше полка в обороне не потяну. Про наступление вообще лучше не заикаться, дабы не опозориться. Будем надеяться на полководцев, зря, что ли, жалованье получают. И немалое — содержание генералов обходится нисколько не дешевле расходов на Черноморский и Балтийский флоты вместе взятые.
А война стоит на пороге и уже стучится в двери. Война, которая сейчас нужна больше мира, как бы ни страшно это звучало. Семь лет мы работали на нее, теперь наша очередь собирать камни. Или разбрасывать? Что же, значит, будем разбрасывать.
— Разрешите идти? — застывший неподвижно секретарь наконец-то решился нарушить мое задумчивое молчание. Инициативный, и это хорошо.
— Да, конечно же.
Сергей Александрович щелкнул каблуками и вышел — никак не избавится от въевшихся с детства привычек. Потомственный военный, то вам не фунт изюму.
— Вызывали, Ваше Императорское Величество? — в приоткрытую дверь заглядывает усатый сержант с двумя золотыми нашивками за тяжелые ранения.
Черт побери, я сам не заметил, как рука привычно нажала на звонок. Зачем мне солдат в кабинете? Поговорить?
— Садись, — показываю на стоящий напротив стул. — Или присаживайся. Если так удобнее.
Улыбается, каналья, но мотает головой. Тоже правильно — для часового на посту караульный начальник пострашнее любого императора. И если обнаружит нарушение, то никакие монаршие милости не компенсируют грядущие неприятности по службе.
— Слушай, Василий Петрович, что ты думаешь о французах? — Сержант улыбается еще шире. А что, если Наполеон знает в лицо чуть ли не каждого своего гвардейца, то и русскому царю не зазорно. Вроде малость, а людям приятно. — Ну? Только правду.
Задумался. И это тоже хорошо, ведь лет пять назад мне бы ответили в таком духе: мол, не сумлевайся, надежа-государь, бравы солдатушки одолеют супостата одной левой, ты только прикажи. А глаза обязательно выпученные и похожие на оловянные пуговицы.
— Француз — вояка умелый, Ваше Императорское Величество.
— Давай без титулований, братец. Умелый, говоришь? А ты сам?
— Ну-у-у… сравнивать не стал бы.
— Это почему же?
— Несправедливое сравнение, государь! Кто я, а кто они!
— Русскому солдату негоже скромничать.
— При чем здесь скромность? — искренне удивился часовой. — В правильном бою я пятерых побью, не запыхавшись, а в тайном, как Александр Христофорович обучает, и двух десятков мало будет.
— Ладно, иди, чудо-богатырь. — Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
— Вот и поговорил с народом! Vox populi[1] послушал, мать его за ногу!
Скрипнула дверь. Черт побери, безопасность безопасностью, но все же стоит приказать смазать проклятые петли! Нервы и без того натянуты струной, а мерзкий звук проходится по ним даже не смычком — пилой, оставляющей зазубрины. Вот хватит кондрашка невзначай!
Легкие шаги Марии Федоровны узнаваемы. Дражайшая супруга в свои годы умудряется не только выглядеть на тридцать лет, но и чувствовать себя так же. Злые языки, к сожалению, еще не подрезанные под корень товарищем Бенкендорфом, утверждали, что императрица играла с дьяволом в карты, поставив на кон бессмертную душу против секрета вечной молодости. Как сообщали рассказчики, царица совсем было проиграла, но появление вооруженного кочергой и винтовкой ревнивого супруга, то бишь меня, радикальным образом повлияло на результат.
В итоге состоявшегося выяснения отношений черт лишился рогов, хвоста, целомудрия (тут как раз пригодилась кочерга) и был отправлен этапом на Аляску. Вечная же молодость досталась призом победителю, разделившему еще в равных долях, не считая малой толики, выделенной присутствовавшему при допросе и аресте нечистого фельдмаршалу Кутузову.
Церковь в лице обер-прокурора Священного синода отца Николая выступила с опровержением гнусных домыслов, но напечатанные во всех газетах Российской империи статьи имели эффект хоть и положительный, но прямо противоположный ожидаемому. Читатели с серьезным выражением лица кивали друг другу, многозначительно перемигивались, а та история обрастала все новыми подробностями.
Да и плевать, честно сказать. Зато не придется никому ничего объяснять, выдумывая причины столь крепкого здоровья и общей бодрости организма.
— Павел, ты тревожишься, я чувствую, — теплые ладони привычно легли на плечи. — Что-то случилось?
— На душе нехорошо. — С Марией Федоровной можно и нужно разговаривать откровенно, как на исповеди. И даже более.
Впрочем, кое о чем лучше промолчать и там, и там. Оно самому спокойнее, и душа не отягчена осознанием ввержения человека в пучину страстей. Негоже ставить любое из Божьих созданий перед выбором — поверить или нет, хранить или продать… Да, Господь дает свободу воли, но лишь нечистый предлагает варианты. Поэтому исповедь для меня является формальностью, несмотря на то что прошлой памятью императора Павла Петровича я очень верующий человек. Не набожный, а именно верующий. Понимание сего факта пришло не сразу, но и неожиданностью тоже не стало.
— Не переживай, Павел, все будет хорошо. Россия никогда не проигрывала свои войны.
— Вот как? — наконец-то поворачиваюсь, благо кресло на колесиках позволяет сделать это не вставая. От супруги, в последнее время увлекшейся изучением русской истории, можно было ожидать многое. — И на основе чего же сделаны столь выдающиеся выводы, дорогая? Татаро-монголов ты отменила высочайшим повелением?
— А это с какой точки зрения посмотреть.
— С любой.
— Павел, ты ошибаешься! — Императрица хмурится, отчего на переносице появляется строгая морщинка. — Верна только та точка зрения, что служит благу Отечества. Не смейся: для женщины Родиной становится та страна, в которой родились ее дети.
— Иезуитство! — И на всякий случай уточняю: — Это не про детей.
— Я помню. — Морщинка пропала, и лицо расцвело в милой улыбке: — А иезуиты, между прочим, умнейшие люди.
— Кто бы спорил.
— Не отвлекай… Они Китаю историю написали, придумав несколько тысячелетий прошлого, и…