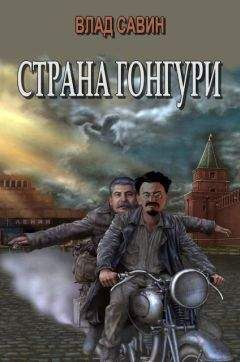– Скорее бы.. – ответил другой боец – устали уж все. Увидеть хочется – ради чего. Какая она – жизнь, за которую боролись. На Июль-Корани, когда мы под огнем залегли, головы не поднять – подбегает к нам партийный, знамя в руке, и орет – вперед, в самый раз последний, и войне конец, по домам! Жить всем хочется, и дома шестой год уж не были – но еще больше увидеть охота, какой он, коммунизм, строй обещанный, самый справедливый. Встали мы дружно и пошли. А партийного того сразу убило.
– Партийных уважаем: за спины наши не прятались – сказал третий – помню, впереди всех шли, со знаменами алыми, в черных кожанках. Зная, что враг их – в первую очередь на прицел. Говорят, из полутысячи их двадцать только осталось. Зато всем им Вождь, как вернулись – самолично ордена краснознаменные вручил.
– Из нашего батальона тоже после семнадцать было живых! – мрачно ответил еще один боец – возле "трехсотой", сам видел, ров в котором танк бы уместился, и телами мертвыми доверху: так ребят и схоронили – не было сил уж разгребать. Измена, не иначе – говорят, в расход за это вывели кого-то из спецов штабных. И комдив наш – под руку горячую попал.. А может – враги-изменники убили: ведь парень-то наш, рабочий, никакая не контра! Ну, разберутся – те, кому надо!
– А ну, отставить нытье! – рявкнул матрос – я вот тоже на Июль-Корани был, однако больше всего там другое помню! Как стоим мы после на самом гребне, среди окопов и блиндажей разбитых, солнце внизу на рельсах играет, и кажись, даже море вдали видать. И такая радость огромная, что победа наша – душа поет! А в память наших, кто там остался – после победы памятник поставим гранитный, в сто сажен высотой, чтобы за сотню верст было видно. Боец каменный со штыком склоненным – а на постаменте золотом имена всех, кто там погиб. И поезда мимо – гудок будут давать. Так Вождь сказал – значит, будет…
Июль-Корань брали весной – всего лишь пять месяцев назад. Гелий с восторгом слушал рассказы товарищей – как на неприступные высоты, залитые бетоном укрепрайонов, шли в атаку краснознаменные дивизии и полки – как на параде, в полный рост, с песнями, под музыку оркестров, через бешеный огонь врага, минные поля и колючую проволоку в десять рядов. Он жалел, что не был там, не успел – слушая о деле, которым через столетия будут гордиться свободные граждане Республики Труда:
– Пуль не замечали – как на параде шли. Раненые строй не покидали – пока могли шагать.
– Заранее приказ был – только вперед. Чтобы, если командиров всех убьют, все знали – вперед, и никак не иначе.
– Танки наши горели – а экипажи не выскакивали, стреляли. Чтобы – еще хоть один выстрел по врагу. И сами уже спастись не успевали – боезапас взрывался.
Штурм продолжался день, ночь, и еще день – пока враг не бежал. Отступил, разорвав фронт надвое – на востоке, все дальше откатываясь в степи, за Каменный Пояс, его воинство быстро превратилось в скопище разномастных банд, а на юге белопогонники бежали до самого Зурбагана. Это была победа, полная и окончательная; дальше врагу оставалось лишь то, что в ультиматумах именуется "бессмысленное сопротивление".
– А все ж на Шадре тяжелее было – заметил перевязанный, свернув наконец самокрутку – у Июль-Корани мы все-таки уже наступали, а там – неясно еще было, кто кого.
– Это кому ж неясно? – сразу подскочил матрос – ты что, сомневался, что коммунизм победит?
– Я на плацдарме был – сказал перевязанный – на том самом, за рекой. Такого пекла – за все шесть лет не видел: утром переправляют свежий полк нам в помощь, три тысячи штыков – к вечеру и на роту из него живых нет! "Градом" накроет – кто под залп попадет, ни тел не находят, ни самих окопов: лишь земля как сквозь сито сеяная, и в ней то подметки клочок, то осколок затвора! В дивизии Крючкова я был – в бою том самом, где он погиб..
– Помним Кузьму нашего – вставил кто-то – боевой был комдив! Просто воевал, и понятно – где враг? Вперед, и за мной! И в самом деле – в Шадре утоп, пораненый, как нам рассказывали?
– Не видел: врать не буду – ответил перевязанный – может, и в самом деле, утоп. Хотя говорили, сам слышал, что Кузьма наш все ж доплыл, но от ран уже на нашей стороне помер. А другие – что в бою его убило, еще до того. От всей дивизии после того боя едва батальон остался – а я даже не ранен был! Будто бог меня берег – и вот сегодня, в пустячном деле пулю поймал! Ничего – недолго уже до конца: как-нибудь доживу.
– Перекрестись – сказал второй боец – я, когда последний раз ранен был, выздоравливающим в команде при чрезвычайке состоял, до того как снова на фронт…
– В которой? – с интересом спросил матрос – давил я безжалостно контру, поскольку она, проклятая, сама подыхать не хотела, и даже временами наступала, искоренял я ее в двух ревтрибуналах, двух особых отделах и шести чрезвычайных комиссиях. И в той самой, по борьбе с контрреволюцией, еще – по борьбе с голодом, с сыпным тифом, с неграмотностью, с бесквартирностью, с бюрократизмом. Пальцев на руке уже не хватает, а сколько вражин в расход я лично вывел – и вовсе не счесть. Потому, как по науке арифметике трудового народа больше, чем паразитов – то если каждый убьет хоть одного врага, коммунизм уже и настанет! Дело нужное – а ты в которой был?
– А бог ее знает – ответил боец – все они одинаково виноватым билеты в один конец дают. Было это, когда декрет о ценностях церковных вышел. Приходим мы в лавру, длиннорясых всех в подвал согнали, а старший наш – к их главному, архиерею или патриарху, у входа двоих на часах поставил: меня и еще одного. Двери толстые, слов не разобрать, лишь голоса. Понять можно, что наш будто того уговаривает о чем-то, то грозит, то по-хорошему просит – а тот отвечает тихо, но упрямо. Долго так прошло – старший нас зовет. Мы входим, хотим уже того вести, и тут наш старший говорит – может еще подумаете, ваше святейшество? А тот – твердо так: не могу согласиться на богопротивное дело, потому как с богом там встречусь – и что ему скажу? Ну, отправили мы его к богу – как всех. Но сколько раз я видел, как за минуту до того даже мужики здоровые хуже баб воют, а тех поставили мы у стенки прямо там во дворе, так они на нас смотрели, будто сейчас не им умирать, а нам. Кому лучше знать – может, и впрямь там есть кто-то? Ведь верят же отчего-то – уж сколько лет!
Солнце заходило – небо горело желтым, оранжевым, багровым; на востоке же оно стало уже темно-синим, цвета густых чернил. Ветер стих, от нагретой за день земли исходило тепло; пахло лугом, сеном, травой. Горел костер, и в небе как искры загорались звездочки – одна, другая, третья.
– Нет бога! – заявил матрос – все лишь выдумки поповские, чтобы легче народ грабить. А на небе там никакой не рай – такие же солнца, как наше, только далеко. И живут возле них такие же люди, как мы. Верно, товарищ комиссар?