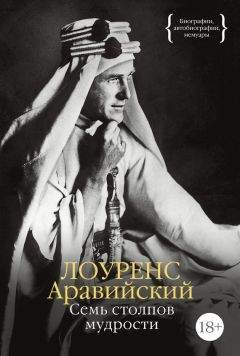Он проверил балладный лад аккорда, бегло тронул струны…
— Пустые бочки вином наполню, расправлю вширь паруса-холсты…
Прости-прощай, ничего не помню, рассвет настал, небеса чисты.
Начну с рассвета, пойду к закату — там, на закате, уже весна.
Покуда плыть хорошо фрегату, пирату жить хорошо весьма.[1]
Зачем-то это было нужно им всем, вырвавшимся из казарменной тупости и притащившим ее с собой сюда, в эту жемчужную страну. Какой-то отклик находила в них тоска баллады, какой-то проблеск мысли и чувства появлялся на лицах, когда они шевелили губами, беззвучно подпевая:
— Восток горячий хрустит поджаристо, где-то слышен металл…
Но ты, Мария, не плачь, пожалуйста. Час еще не настал…
Из бури выйду, из драки вылезу, сколь меня ни трави.
Одно лишь есть, чего я не вынесу — это слезы твои.
Но час еще не настал…
* * *
Надо отдать сукину сыну должное — песенки сочинять он умел…
Георгий Берлиани, князь, сразу невзлюбил этого тощего офицеришку. А когда оказалось, что из-за него все их дело может полететь к черту, так и вовсе возненавидел. Но не мог не признать, что песня его волнует и тревожит — а как же иначе, подумал он, ведь у каждого мужчины есть женщина, к которой можно обратить эти слова, а если ее нет, то и не мужчина он вовсе, и даже не человек, а так — недоразумение… Зачем этот хрен умеет петь такие прекрасные слова? Чтобы мы поверили, что они тоже люди — не хуже нас? Как можно служить в советском десанте и петь:
— Повис над морем туман безжалостный, белый, как молоко…
Но ты, Мария, не плачь, пожалуйста, — смерть еще далеко.
Ничто не вечно, бояться нечего — сядь, смолчи, пережди.
Не верь прохожему опрометчиво, все еще впереди…
Да, смерть еще далеко…
Кой черт далеко — здесь, в двух шагах, у каждого из них в кармане. Арт слушает, как завороженный. Как кролик перед удавом. Не отлипает от советского капитанишки. Капитанишка наступил на его самую любимую мозоль и артистически на ней танцует, хотя и сам этого не знает.
-…И пусть вовеки не быть возврату, и все кругом застелила тьма —
Покуда плыть хорошо фрегату, пирату жить хорошо весьма.
Никто стихии не одолеет — ни я, ни люди, ни корабли,
Но я не сгину, покуда тлеет во мгле страданья огонь любви.
И я мечтаю, чтоб он пожаром стал и объял бы моря…
Но ты, Мария, не плачь, пожалуйста, — это просьба моя.
Одна, но есть еще и вторая — к концу последнего дня
Скажи священнику, умирая, о том, что помнишь меня…
Да, смерть еще далеко…
Все еще впереди…
Не плачь…
На этой ноте отзвенела гитара, закончилась песня, завершился день. Все было предрешено и необратимо, записано в господень organizer. И необратимость будущего, сама мимолетность последнего мгновения тишины делала его, это мгновение, нестерпимо прекрасным и светлым. И каждый вобрал в себя света сколько смог, предчувствуя наступление ночи, и не ожидая от нее ничего хорошего чисто инстинктивно, хотя и думая, что рационально. И это последнее мгновение они все прочувствовали, попытались слегка затормозить и просмаковать, как бывалый курильщик смакует, растягивая, последнюю сигарету, если знает, что впереди — долгие дни без курева.
Потом Лебедь сказал:
— Ну, спасибо, капитан. Поеду водка пить, земля валяться.
Все начали расходиться. Майор сунул руки в карманы и зашагал вниз по склону, к перекрывшим дорогу БМД. Глеб, сунув гитару Васюку, решил его проводить до машины.
— Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки, — сказал ему Лебедь на прощание. — Пока. Завтра я вас сменю.
Его «Уазик» выехал за ворота и покатился по «серпантину» обратно, в Гурзуф.
Над всей Испанией безоблачное небо…
Сигнал к началу войны 1936 года в Испании.
29 апреля, Москва,1946
Иконостас был собран в полном составе.
Пренеприятнейший (который, разумеется, себя пренеприятнейшим не считал, а полагал, напротив, милейшим человеком и радетелем о благах державы) слушал Маршала с пристальным вниманием. Остальные, напротив, занимались кто чем — рисовали в блокнотах чертей, что ли? За исключением Молодого, который молодым, конечно, тоже не был. Было ему хорошо за пятьдесят, но, как доказал в своей впоследствии подтвердившейся лжетеории Эйнштейн, все в мире относительно. Относительно самого Пренеприятнейшего и особенно — относительно Генерального, Молодой был еще каким молодым!
— Так тебя понимать надо, что наши войска Крым заняли? — спросил Пренеприятнейший.
— Территория Восточного Средиземноморья контролируется, — подтвердил Маршал.
— Тогда пора, вроде, приступать ко второй части плана, — «Пренеприятнейший» обратился к «Видному липу». — Пора ведь? Это по вашей части, товарищ К?
— Ох, пора, — кряхтануло Видное Лицо. — Сколько там, на Острове, задержано белогвардейцев?
— Тысяч пятьдесят, — сказал Маршал.
— Так, стало быть, потребуется пятьдесят эшелонов, — навскидку сказало Видное лицо. — Так это ж чепуха, капля в море.
— Не следует забывать, что будут новые… поступления, — напомнил «Окающий». Кстати, говорят, что этот… Лучников у тебя на Лубянке?
— А кто говорит? — перехватил вопрос «Замкнутый».
— Да… Слухом земля полнится, — отшутился «Окающий».
—Ай-яй-яй,… (отчество «Окающего»), да как же вы разным глупостям-то верите? Нет у меня никакого Лучникова. В бегах Лучников…
— Ничего… — отрубил «Пренеприятнейший». — Поймаем! И не таких ловили…
«Видное лицо» ничем себя не выдало. Ловите, братцы, ловите! Может, и впрямь кого поймаете… — он представил себе, какими эти две рожи будут завтра — Маршал и «Пренеприятнейший». И «Окающему» тоже перепадет говна-пирога…
Уже сейчас он наметанным ухом подмечал неуверенные нотки в голосе Маршала. Остальные не подмечали, а если и подмечали, то относили на счет своей значительности. Но мгновениями его охватывал холод: а что, если не рассчитал? Если крымцы и впрямь окажутся сущими бабами и позволят себя отыметь ни за так, за здорово живешь? Ох, и думать об этом не хотелось.
— Все-таки не хотелось бы никакого насилия, — тихо вставил Молодой. — Как-нибудь помягче, что ли. Какой-нибудь консенсус найти…