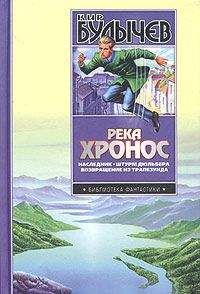Если до зимы ты не сможешь вновь посетить меня, то я сам приеду к тебе в Москву. Помни о том, что ты должен сделать в случае, если я внезапно умру или исчезну.
Обойдись бережно с Глашей. Ей по твоей вине было несладко. Она болела. Но она тебя не осуждает и любит.
Искренне твой, С. С.
* * *
Письмо было напечатано на пишущей машинке, что было непривычно для письма – на машинках печатали лишь документы, и то не всегда. Но отчим старался использовать удобства прогресса.
– Ты его потом еще прочти, – сказала Глаша. – Я думаю, что такое письмо сразу не поймешь.
– Ты его читала?
– Нет, но знаю, о чем оно. Сергей Серафимович мыслей от меня не скрывает. Иди спать, тебе завтра трудная дорога.
Глаша была права – письмо, хоть разумность его Андрей во многом признавал, было настолько абстрактнее его собственных мыслей и переживаний, что и думать о грозных предсказаниях отчима не хотелось.
– Я поднимусь наверх, – сказал Андрей. – Погляжу на Ялту.
– Пошли, – сказала Глаша. – Только ветер там большой.
Они поднялись на второй этаж. Дверь в кабинет была заперта. Они вышли на веранду. Ветер дул упруго и постоянно. Море скрылось во мгле, но на небе сквозь редкие несущиеся тучи проглядывали звезды.
– Из Турции ветер, – сказала Глаша. – А может, из Египта.
Здесь разговаривать о вещах сокровенных было легче, чем на кухне. В темноте лицо Глаши было едва различимо, только когда она говорила, блестели белки глаз и зубы.
– Тебе из-за меня нехорошо было, – сказал Андрей. – Прости.
– Глупый ты, – сказала Глаша. – Я на тебя не сердилась.
– А Сергей Серафимович?
– Я тебе писала. Он огорчен был. Любит он меня.
– Как?
– Как муж любит. И я его люблю. Если бы это у меня с другим было, он, может быть, рассердился, но не стал бы так огорчаться. Ведь в его глазах я тебе как мачеха. В этом грех.
– Какая ты мне мачеха…
– Я тоже понимаю.
Андрей приблизился к Глаше, протянул руку, но Глаша почувствовала, что Андрей словно выполняет давно взятый на себя долг. Она отошла на шаг и сказала:
– Как будто сто лет прошло.
Потом, как бы утешая Андрея, она поцеловала его в щеку, так, что получился не поцелуй, а знак душевного расположения.
– Лидочка твоя красивая, – сказала Глаша. – И добрая, по-моему. Ты бы видел, как она меня уговаривала ее не выдавать, что она это варенье нам принесла. Но я думаю, что она пришла из любопытства. Ей хотелось на нас поглядеть.
– А мне об этом не написала.
– И понятно. Пошли, что ли, вниз?
– Сейчас. А ты давно отчима знаешь?
– Куда давнее, чем ты думаешь.
– Я еще не родился?
– В этот дом я пришла, когда твоя мама умерла. Сергей Серафимович все делал для нее: и лучших врачей привозил, и лекарства из Швейцарии. Он меня раньше знал… но пока твоя мама в этом доме жила, я здесь не жила.
– А кто мой отец?
– Сергея Серафимовича товарищ.
– Но почему имя сказать нельзя? Ведь в наши дни не бывает тайных рождений и загадок. Мы же не в средневековье живем.
– Захочет Сергей Серафимович, расскажет. Потом, когда ты будешь к этому готов.
– Но почему я не готов? Мне девятнадцать лет, я, может быть, завтра уйду в армию и погибну. Почему за меня кто-то может решать?
– А за человека всю жизнь решают. Те, кто сильнее, или те, кто больше знает. Это от возраста не зависит. За меня тоже решали.
Глаша первой пошла с веранды. Андрей спросил ее вслед:
– Сергей Серафимович писал, что ты болела. Что с тобой случилось?
Глаша уже начала спускаться по лестнице.
– Выключи верхний свет, – сказала она.
Андрей повернул выключатель, и свет на верхней площадке погас.
– Ты не ответила, – сказал он. – Может, я могу помочь. Из Москвы. Лекарство прислать.
– Нет, – сказала Глаша, остановившись внизу лестницы. – Не поможешь ты, мой дорогой. У меня болезни женские.
– Но и от них бывают лекарства. В конце концов, почему ты должна меня стесняться?
– А правда, чего? – сказала Глаша с неожиданным раздражением. Они уже спустились вниз. Она обернулась к Андрею: – Выкидыш у меня был, вот что. Еле отходили. Зимой. Нельзя мне рожать, оказывается.
Андрей ничего не ответил. Он не сразу понял.
Глаша пошла на кухню. Он видел ее в открытую дверь. Вот она подняла самовар и понесла его в угол, на железный лист.
– Ты хочешь сказать… – Андрею не хотелось верить. Но нельзя было уйти, не узнав.
– Ничего я не хочу сказать, Андрюша, иди спать. От тебя был выкидыш. А я думала – ребеночек родится. Так что у Сергея Серафимовича были основания на меня сердиться. Но если бы не его забота, я бы померла.
– Но почему ты ничего не сказала? Мне! Почему не написала?
– Чтобы ты возненавидел меня? Старая баба, соблазнила мальчика, и теперь он, совестливый, должен свою любовь к молоденькой забыть? Даже если бы был ребеночек, я бы тебе в жизнь не сказала. Да нельзя, значит, мне…
– Прости, Глаша.
– Иди спать, дурачок. Мне еще надо прибрать. Иди-иди, не приближайся даже и поцелуев мне твоих не надо – сам понимаешь, что все сгинуло.
Андрей прошел к себе в комнату, и у него было ощущение конца света – завершения прошлой жизни. Он лежал на узкой кровати, смотрел, как бьются под ветром занавески открытого окна, и понимал, что больше никогда ему не лежать на этой кровати и не слышать поутру, как Глаша созывает кур, как сухим голосом отдает ей хозяйственные распоряжения отчим, потом берет велосипед и уезжает куда-то по делам… «Она страдала и была близка к смерти из-за меня! И я ничего не почувствовал, не понял, только избегал ее. Она благородная женщина, а я мелкий мерзавец!»
Глаша вошла без стука. Она была одета. Подошла к его кровати, наклонилась и поцеловала – в губы, горячо и долго. Потом с силой рванулась из его рук, выпрямилась, нервно коротко засмеялась и сказала:
– Спокойной ночи, коханый мой.
И ушла, захлопнув за собой дверь.
Андрей думал – встать ли, пойти ли к ней в комнату. Но понимал, что не нужно, даже если Глаша ждет его прихода.
Утром Глаша разбудила Андрея и сказала, что от Ялты до Симферополя теперь ходит авто. Только надо успеть подойти к девяти к «Франции».
Ветер не улегся, но был спокойнее. Глаша дала ему на дорогу слив и абрикосов. Они обсуждали, когда он приедет, – все зависит от того, останется ли он в университете.
– Оставайся, – сказала Глаша уверенно, – нельзя тебя убить. На войне первым делом таких, как ты, мальчиков убивают. За что тебе в таких же германских мальчиков стрелять? Они тебя не обижали.
– Ты не понимаешь, – сказал Андрей. – Речь идет о судьбе демократии.
– И европейского славянства, и защиты бельгийских деревень от гуннских насильников. Ты чего мне газеты пересказываешь?