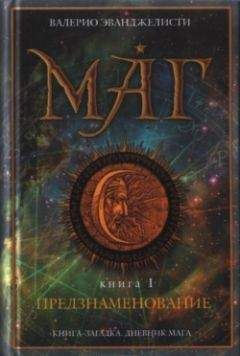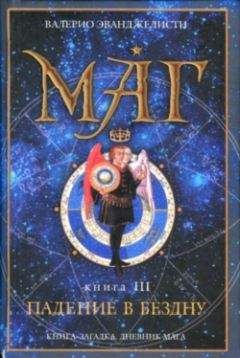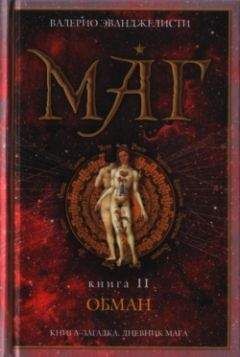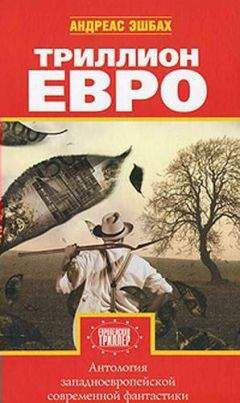В эти месяцы 1540 года скромные силы парижской полиции были брошены на подавление «большой стачки»: восстания типографов, начавшегося год назад в Лионе и теперь дошедшего до столицы. Франциск I был до того встревожен, что запретил типографам собираться на ассамблеи, требовать повышения жалования и объединяться в братства. Исполнение его приказа потребовало мобилизации всех сил охраны порядка и развязало руки нищим и преступникам.
Для «дворов чудес», от самого обширного, что находился у Нового моста, до самых маленьких, наступило время вольницы. Молинас заметил это, как только карета покатила по узким переулкам в окрестностях тюрьмы Шатле — исторического места обитания преступников, которые проходили школу жизни в тюрьме и с этой же тюрьмой потом связывали свою судьбу. Из-под вывесок бесчисленных таверн выглядывали цыгане, которым раньше муниципалитет платил только за то, чтобы они не показывались в городе. Возле них ошивались попрошайки всех сортов, дезертиры в лохмотьях военной формы, старые хромые проститутки и юнцы с хитрыми либо отсутствующими лицами. Все ждали, когда кончится дождь, чтобы снова разбрестись по улицам и заняться своим подозрительным промыслом.
Дом, напротив которого остановилась карета, стоял между запертой остерией и старым магазином и ничем не отличался от других домов: такой же обшарпанный и дряхлый. На его каменном теле наросло со временем столько деревянных пристроек, что он стал походить на кривую и угрюмую Вавилонскую башню.
— Вы удивитесь, — сказал Лоренцино, улыбнувшись Молинасу, — но в этой халупе обитает самый ученый человек нашего времени.
— Зачем мне с ним встречаться? — спросил обеспокоенный испанец. Он постоянно пребывал в панике, боясь, что столкнется с кем-нибудь, кто знаком с Нотрдамом и сможет его изобличить.
— Я говорил ему о вас, и он хочет вас видеть. С его помощью мы постараемся проникнуть в королевский дворец.
Однако подъезд дома, куда так стремился попасть Лоренцино, не имел никаких признаков королевского достоинства. Из дверей, выходивших в сырой коридор, то и дело высовывались встревоженные крючконосые лица, любопытствуя, что за гости пожаловали. В полутьме комнат Молинас различил длинные бороды и пышные волосы обитателей. Личности этих людей не вызывали сомнений: срабатывал инстинкт давней, застарелой ненависти. Евреи. Эта клоака кишела евреями. Он поплотнее завернулся в плащ, словно тот мог защитить его от ужаса, который внушало это место.
Лоренцино сделал знак Вико и Мавру.
— Можете подождать здесь. Я вне опасности. — Потом он обернулся к Молинасу. — Следуйте за мной, господин де Нотрдам, и не поддавайтесь впечатлению от обстановки: даже в куче навоза можно порой найти настоящий бриллиант.
Он повел Молинаса по шатким лестницам деревянной части дома, потом они миновали переход, ведущий в крытый дворик, по которому прохаживались все те же бородачи, уткнувшись носами в книги. Наконец они оказались перед покосившейся дверью. Лоренцино постучал, и ему ответили:
— Войдите!
Тогда юноша распахнул створки и втолкнул Молинаса перед собой.
Испанец оказался в большой, приличного вида комнате, стены которой были сплошь заставлены шкафами с книгами и рукописями. За столом сидел человек лет сорока с тонкими, правильными чертами лица. Густая черная борода немного его старила. За незнакомцем стоял старый еврей в длинном лапсердаке и ермолке на седых волосах. Видимо, он объяснял человеку за столом какое-то место в лежащем перед ним древнем списке. Увидев вошедших, он так и застыл, уперев в лист пергамента указательный палец.
Глаза чернобородого блеснули сначала удивлением, потом радостью.
— Лоренцино Медичи! Вот уж кого рад видеть!
За последнее время Лоренцино успел отвыкнуть от своего настоящего имени и поэтому смутился, однако затем с жаром стиснул руки хозяина дома.
— Это я рад видеть вас, мэтр Гийом! Мы уже целый месяц не виделись, а для меня это слишком долго. — Он обернулся к Молинасу, стоявшему на пороге: — Господин де Нотрдам, это Гийом Постель. Вы, разумеется, слышали о нем.
Молинас впервые слышал это имя, но почтительно поклонился. Видимо, в его глазах читалось удивление, поэтому Лоренцино продолжил:
— Господин Постель — мой близкий друг. Мы познакомились три года назад, в тысяча пятьсот тридцать седьмом, после… — Наверное, он имел в виду дату совершенного им убийства, но вовремя осекся и поправился: — Во время королевской миссии ко двору Сулеймана. Я был послом, и в моей свите самым грамотным и ученым оказался мэтр Постель. Вернувшись из Константинополя, я нашел его в Королевском коллеже, где он преподавал математику и восточные языки. Вы ведь знаете, я посещаю этот коллеж.
Молинас не нашелся, что сказать, и снова поклонился. Постель спас его от неловкости, обернувшись к еврею:
— Спасибо, можете идти, рабби Тодрос. — Как только старик вышел, он оглядел гостя и отвесил ответный поклон. — Господин де Нотрдам, могу себе представить, как вас озадачили обстоятельства нашего знакомства. Мой долг — рассеять ваши сомнения. Мне говорили, что вы ревностный католик, но ваша семья, Санта-Мария, возможно, бежала из Испании от произвола инквизиции. Так вот, дом, где вы сейчас находитесь, дает приют евреям, бежавшим во Францию от преследований инквизиции Испании. Они и здесь вынуждены прятаться среди нищих и оборванцев, но по-прежнему привержены своей вере и хранят древнее знание.
Лоренцино, похоже, почувствовал враждебность Молинаса, потому что счел своим долгом уточнить:
— Мэтр Постель — не еврей и не обитает в этом доме. Сюда он приходит учиться.
— Что же он изучает? — спросил Молинас, стараясь скрыть отвращение.
Ему ответил сам Постель:
— Эти изгои обладают бесценным знанием. Трудно себе представить, сколько мудрости таится в еврейской философии, особенно в Каббале. Я принадлежу к христианам, но убежден, что в иудаизме, как в зародыше, содержатся все остальные религии и все языки. Не случайно наш Франциск является прямым потомком еврея Ноя.
— Франциск Первый питает к мэтру Постелю безграничное почтение, и моя кузина Екатерина тоже, — объяснил Лоренцино. — Даже Сулейман был очарован его утонченной культурой. Это во многом помогло нам объединиться с ним против Карла Пятого.
Постель постучал пальцем по рукописи, лежащей перед ним.
— Медленно, с великим трудом я перевожу «Багир», а «Зогар» уже перевел. Христианская и еврейская религии восходят к общему началу, и Каббала в их синтезе сыграет роль проводника. Чтобы истина стала всеобщим достоянием, я обязан изложить эти мысли при дворе. Но в одиночку мне не справиться. Здесь нужен тот, кто вырос на стыке двух религий и сможет на деле показать плодотворность их слияния.
Молинас подумал о том, что, будь на его месте настоящий Нотрдам, он бы, наверное, возмутился. Ему же нельзя было выказывать непримиримость.
— Двор, похоже, не желает меня знать, — еле слышно пробормотал он.
— Знаю, знаю. Это все результат предрассудков, под влиянием которых находится и наш либеральный король. Я берусь быть посредником между вами и супругой дофина. Она не только почитает меня как философа, но и имеет явную склонность к астрологии и прочим наукам, развитию коих вы способствуете.
— Это правда, — подтвердил Лоренцино, — у нее при дворе больше астрологов, чем придворных дам.
— Если к тому же, господин де Нотрдам, ваше мастерство фармацевта подскажет вам эффективное средство от бесплодия…
С одной стороны, Молинас чуял интригу, которую можно было выгодно использовать. С другой стороны, у него вдруг начался приступ удушья. Дело было, конечно, в плачевном состоянии, в котором находился дом, в старых досках, испускавших под дождем какие-то зловредные флюиды, под стать подозрительным и карикатурным личностям, населявшим развалюху. Но и не только в этом. Молинас сделал для себя весьма болезненное открытие: монархия, считавшая себя христианской, на поверку оказалась подчинена влиянию Постеля, большего еврея, чем сами евреи.
— Вы преувеличиваете мои достоинства, — сказал он, подавляя рвотные спазмы.
— О нет. — Улыбка Постеля сделалась еще дружелюбнее. — Любой студент, изучающий иудаизм, знает, что такое Абразакс или Абраксас. И знает, что в сферу этого понятия не проникают без глубоких знаний и необычных способностей. — Он сложил пальцы. — Господин де Нотрдам, хотите довериться мне?
— Хочу.
Улыбка, которой Молинас сопроводил свои слова, говорила не о доброте душевной, а о том, что он прекрасно знал, какая судьба ждет и Постеля, и его сообщников, и эту гнусную еврейскую нору. И Лоренцино, то есть Лорензаччо.
Мишелю очень понравился Франсиско Валериола. За ним закрепилась слава необыкновенной личности, но это не мешало ему быть человеком простым и сердечным. Со своими тяжело больными пациентами он обращался с такой нежностью, что чудодейственный результат лечения подчас зависел вовсе не от лекарства. С теми же, кто явно прикидывался больным, он был ироничен, но без сарказма. Он утверждал, что несуществующая болезнь — тоже болезнь. У него для всех находилось доброе слово, и пациенты уходили от него если не выздоровевшими, то ободренными.