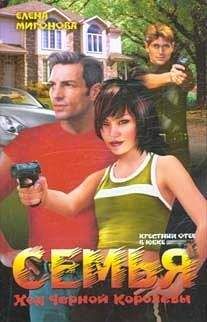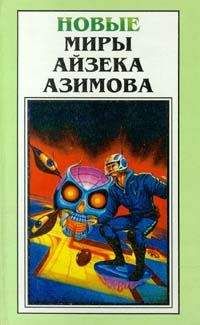и даже красивый мужчина, еще вполне не старый, лет под пятьдесят. Он был одет в белые одежды, напоминающие библейские туники, и в алый плащ, в который он картинно кутался, длинные волосы до плеч схвачены алым ремешком на лбу. И волосы, и аккуратно подстриженная борода были у него седыми.
Он вышел на середину, окинул всех пристальным взглядом, под которым гул голосов стих, немного дольше задержал взгляд на нас, затем хорошо поставленным баритоном, от которого аж мурашки пошли по телу, начал проповедь:
— Братия и сестры! Чада Божий! Благо тому, кто, принимая учение нашей Истинной Веры к сердцу, услаждается им! Сердце, согретое любовью к заповедям Господним, облегчит исполнение их… Ныне предстоит нам с вами постичь, что во Вселенной два великих Начала, незнание сокрытых Тайн о Коих вынуждало людей думать о Них как об одном и том же Источнике… Постигайте, чада Божий, великую Тайну, что Творец Вселенной и Отец наш Небесный не есть один и тот же Источник…
— Во заливает долгогривый как, — с каким-то восхищением что ли прокомментировал Зёзик.
— Воздействует голосом, — ответил Зубатов.
— Голосом нельзя воздействовать, только гипнозом, — не согласился Бывалов.
Они переговаривались вполголоса, и проповедник, которому это явно мешало, прекратил свою речь и умолк, прервав проповедь и недобро глядя на нас тяжелым взглядом.
Прихожане, удивлённые тем, что проповедь не продолжается, начали поворачивать головы к нам.
— И кто же вы такие, чада неразумные, что пришли к нам в Господний Дом и мешаете людям божиим приобщаться к Святой Мудрости? — спросил он строгим словно проникающим аж до самого сердца, голосом.
В избе повисла тишина.
— Вы продолжайте, продолжайте, — скептически отмахнулся Гудков, — нам интересно послушать и понять, чем вы так этим людям головы забили. Продолжайте!
— Узрите, братия и сестры, как души этих заблудших рабов божиих пребывают во тьме! Не видно ни света, ни теплоты в душе их, как будто их совсем не касался огонь благодати, как будто они не христиане, а нехристи, язычники! — унизанный тяжелым золотым перстнем палец проповедника обличающе уставился на нас.
— Эй, дядя, ты разве не в курсе, что рабство давно отменили⁈ — не выдержал Бывалов и задал нетолерантный вопрос.
Гудков глянул на него недовольно, но было уже поздно.
Толпа заволновалась, запенилась. Послышались гневные возгласы. Какие-то здоровые мужики, начали приближаться к нам, что-то свирепо выкрикивая, но что конкретно, в таком шуме было не понятно.
— А ну тихо всем! Стоять! Тихо я сказал! — Гудков выхватил наган и пальнул в воздух. Бабы пронзительно завизжали, и толпа, толкая друг друга, ломанулась к выходу.
В избе остались только мы и сектантский проповедник.
Несколько долгих секунд он смотрел на Гудкова, а Гудков — на него. Когда же, наконец, соревнование в гляделки было закончено, проповедник совершенно спокойно спросил:
— Ну и зачем было людей будоражить?
— Чем меньше опиума для народа — тем лучше, — заявил Гудков, но наган убрал.
— Пришли незваными, нашумели, помешали людям слово божие познавать, да ещё и стрельбу в храме устроили! — попенял нам проповедник, — гореть вам после смерти в гинее огненной!
— Ты Морозов? — перебил разбушевавшегося проповедника Гудков.
— Отец Епифан, — прогудел проповедник.
— Ты мне не отец, — зло ощерился Гудков, — я своего отца хорошо помню. Он такой дурней не страдал.
— И заблудшие души… — начал было Епифан, но Гудков опять перебил:
— Это ваши сектанты Григория нашего побили?
— Не знаю о чём ты, — осторожно ответил Епифан.
— Ночью принесли нашего агитбригадовца в бессознательном состоянии, — сказал Макар, — он в село ходил. Твоих фанатиков работа?
— Народ в Яриковых выселках сплошь мирный, мухи не обидит, — заявил Епифан категорическим тоном.
— Ага, только весь скот за одну ночь перерезали, — ядовито подколол его Зёзик.
— Ты раб божий… — начал было Епифан, но приход другого человека не дал ему закончить.
Здоровенный курносый мужик, с пудовыми кулачищами и раскудрявым чубом, вошел в молельный дом и зло зыркнул на нас:
— Это кто тут святого человека обижает? Ворвались в дом молитвы и пальбу подло устроили!
— А ты кто такой? — и глазом не моргнул Гудков, — вали давай отсюда. Мы сами разберёмся.
— Меня зовут Митрофан Анучин, — нахмурился мужик.
— А-а-а-а! тогда ясно, — растянул губы в улыбке Гудков, — главный сатрап на селе и эксплуататор?
— Кто эксплуататор⁈
— Ты! — палец Гудкова уставился на Митрофана, — трёх малолетних батраков не ты ли, случаем, в рабстве удерживаешь?
— Уже наплели! — зло прищурился Анучин, — небось Степанов, гнида такая, наврал?
— Неважно кто, — оборвал его Гудков, — зато теперь мы точно знаем, что ты контра и мироед! И депешу в город отправили. Так что жди гостей, эксплуататор хренов! Мы вашу эту богадельню враз искореним!
— Ах ты ж падла! — зарычал Митрофан и бросился на Гудкова, размахивая кулачищами.
Еле растащили.
— В холодную его! — хватаясь за шею, прохрипел Гудков, — сейчас из города следователь приедет, а мы потом сходку сельской бедноты проведем! Ещё посмотрим, что люди скажут!
— Проводите! — прохрипел Митрофан, которому парни сдавили горло и закрутили руки назад, — люди вам скажут, что враньё всё это! И что ты тогда делать будешь? Ноги мне целовать и прощения просить⁈
— Да там сектанты одни, ты же сам видел! Они же фанатики! Что они тебе скажут⁈ — возмутился Зубатов, утирая кровь с разбитой брови.
— А где Епифан делся? — выпалил Бывалов, удерживая Митрофана в захвате, — как это он так незаметно улепетнул?
— Как улепетнул? — прохрипел Митрофан, — бросил меня тут одного! У-у-у-у, ирод!
— Ты за свои грехи сам отдуваться будешь! — коротко бросил ему Гудков и велел нам, — Семён и Жорж, тащите его в холодную.
— А где ключ? — спросил рациональный Боборович.
— У председателя, — почесал взъерошенную голову Гудков и развёл руками.
— А что, мы с этим к председателю искать его потащим? — выдал сентенцию Жорж (он всегда, когда волновался, начинал выражаться путанно).
— Тащите его к холодной, — распорядился Гудков парням, затем кивнул на меня, — а председателя с ключом пусть Генка найдёт. Зря что ли брали его⁈
— И