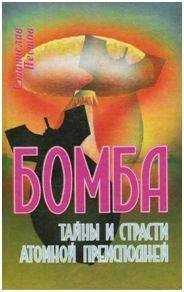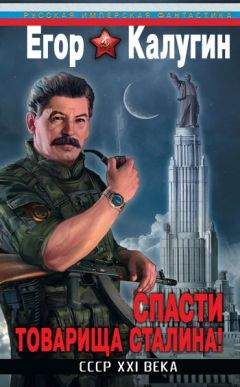новые джинсы, за кубинский ром и импортные компакт-кассеты. Дорвался до красивой жизни, словно мне и правда семнадцать.
— Мама, иди домой, поспи, — прошу её. — Со мной уже ничего не случится. Я в надёжных руках отечественной медицины, как известно, лучшей в мире, хотя и бесплатной.
После долгих уговоров, она, наконец, встаёт.
— Хочешь, я Лиду позову? — предлагает мама, — она тут, в коридоре сидит.
— Что она здесь делает? — удивляюсь.
— Знаешь, я серьёзно ошибалась насчёт неё, — говорит мама, — думала, что она вертихвостка не хуже своей родительницы. А она тебя чуть ли не на руках до дома дотащила, а после весь Берёзов на ноги подняла. И потом, остальные приходили — уходили, а она так здесь и дежурит вместе со мной почти сутки.
— Позови, — говорю. — Если появления внуков не боишься.
— Дурачок ты, — она аккуратно ерошит мне волосы, так словно я хрустальный и могу рассыпаться, — я теперь ничего не боюсь.
* * *
— Ты точно ничего не помнишь? — пытает меня вопросами Лида, — Ничего-ничего?
— Лиходеева, ты что в милицию работать устроилась, — говорю, — или в Добровольную Народную Дружину? Грибов меня вопросами мучил, теперь ты принялась?
— Я тебя спасла, вообще-то, — обижается она, — знал бы ты, как я перепугалась. Лежишь, не шевЕлишься… кровища вокруг.
— А ты сама никого не заметила? — спрашиваю, — ты же там часа три сидеть должна была возле дома.
— Так, я за забором была, под окошком твоим, — поясняет она. — Чтобы на улице не мелькать, а то мало ли какие сплетни пойдут…
Кому-кому, а Лидке сплетен можно не бояться, думаю я. Про неё уже сочинили всё, что можно на десять лет вперёд. Тем более что симпатии наши она не то что не скрывает, наоборот, выпячивает напоказ.
— Ты понимаешь в чём дело, — объясняю, — тот самый, он же точно так же меня дожидался, только на улице. Он снаружи, ты внутри. Представляешь себе?
— Жуть какая, — ёжится Лида. — А как ты думаешь, кто это был?
— Понятия не имею, — говорю, — в милиции считают, что грабитель. Вот только не представляю, кому моя камера понадобиться могла.
— Так, редакцию тоже обворовали, — вспоминает Лиходеева, — и взяли что-то с фотографией связанное…
Интересно, откуда такая осведомлённость? Хотя в Берёзове событий происходит мало, так что всё на слуху.
— Ты считаешь, что у нас в Берёзове завёлся фотоманьяк?
— Глупости, — фыркает она, — в Советском Союзе маньяков быть не может. Они есть только на загнивающем Западе. Как там жить, наверное, страшно…
Расспросив у меня подробности и узнав, что я ничего не помню, Лида заметно веселеет. Она со смехом рассказывает, как косилась на неё Подосинкина, когда приходила ко мне в палату.
— Отпрыгнула в сторону, словно привидение увидала, — говорит она с превосходством в голосе.
Сочувствую про себя впечатлительной няше. Её в своё время даже Лидино фото привело в чрезвычайное волнение, а тут вживую мою модель встретила.
— А что за тётка к тебе приходила? — спрашивает Лиходеева.
— Какая? — уточняю, — Лида, радость моя. Я ж без сознания лежал, откуда же я знаю?
— Такая вся из себя фифа в импортных туфлях.
Значит, не померещилось. Людмила Прокофьевна Леман и правда почтила больного своим присутствием.
— Не знаю, — изображаю задумчивость, — я много кого фотографировал.
— Смотри мне, Алик, — Лида наклоняется ко мне, так что пряди её волос касаются моего лица, а губы шепчут совсем рядом с моими. — Ты обещал мне фото на обложке. И пока я его не получу, никуда ты от меня не денешься. С того света тебя достану.
Если до этого момента мне даже двигаться было трудно, то сейчас я чувствую шевеление в не самых подходящих для моего состояния местах.
— Лида, — говорю, — мне покой прописали. Я на тебя доктору нажалуюсь. Попрошу оградить меня от твоих приставаний на время лечения.
Лиходеева выпрямляется с торжествующей улыбкой. Она снова изображает из себя скромницу, и, сложив руки на груди, садится на соседнюю кровать.
— Тебе, наверное, скучно? Может тебе книжку почитать? — предлагает она. — Или журнал какой-нибудь? “Технику Молодёжи”, например. Я могу в библиотеку сходить…
— “Советское фото”, — говорю.
На лице у Лиды сомнение, не издеваюсь ли я, и тут же сменяющая его глубокая сердечная участливость. Словно она и есть — та самая, что принесёт мне стакан воды в глубокой старости.
— Хорошо, — покладисто соглашается она, — я завтра возьму. Сегодня уже поздно, наверное. Что-нибудь ещё?
— Есть кое-что, — киваю. — Обойдусь я пока без журналов. Ты мне лучше скажи, Лида, где мой рюкзак?
Табачный дым в кабинете Молчанова висел так плотно, что хоть топор вешай. Собравшиеся уже дошли до той стадии мыслительного процесса, когда в дело пошла бутылка армянского коньяка “Двин” из ящика начальственного стола. Стесняться было некого, все свои.
Благородный напиток, который даже Уинстон Черчилль ставил превыше аутентичных коньяков, производимых “лягушатниками”, никто не смаковал. Пили сурово, дабы притушить эмоции и настроить мысли на единую управленческую волну. Ситуация была такой, что, как говорится, “без ста граммов не разберёшься”.
— По всем признакам получается “Разбой”, — вздохнул капитан Грибов. — Причинён вред здоровью, присвоено ценное имущество…
— Надо в область сообщать, — перебил его полностью седой мужчина с моложавым, эффектным лицом киноактёра, — это не наш уровень. Пускай присылают следователя, он сам и копает.
Молчанов поморщился. Прокурор района, Сергей Устинович Яцко вызывал у него глубокую, не до конца объяснимую неприязнь. Благообразный и улыбчивый, предпочитавший даже на работе форменному кителю кожаные пиджаки, Яцко обладал редким талантом избегать неприятностей и выходить сухим из воды.
В любой ситуации, когда требовалось его вмешательство, прокурор чудесным образом оказывался “в отъезде”, “на совещании”, или “на больничном”. Как и сам Молчанов, Яцко в Берёзове был “ссыльным” из области, но, в отличие от первого секретаря не сильно по этому поводу переживал, предаваясь провинциальному эпикурейству с банями, охотами, а также, по слухам, любовными интрижками.
— Ты ж понимаешь, Сергей Устиныч, что это как козла в огород пускать, — “колбасный властелин” Олег Долгополов погладил аккуратную бородку. — Мало ли чего он