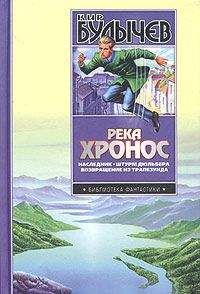После чая Евдокия Матвеевна оставила «детей» в Лидочкиной комнате, где на стенах висели голубые акварели. Лида, убедившись, что мать в самом деле ушла, сказала:
– Я очень перед тобой виновата, но я должна тебе все рассказать.
– Что случилось? – У Андрея провалилось сердце. Он сидел на стуле, любовался Лидочкой. И признание таким тоном доброго не сулило. – Ты встретила другого человека?
– Не говори красиво. Я к тебе хорошо отношусь, – сердито сказала Лидочка. – Но я должна показать тебе одно письмо.
Она раскрыла ящик письменного стола и вытащила оттуда пачку писем, перевязанную голубой ленточкой.
– Я раньше от мамы письма прятала. А потом поняла – она все равно найдет. Она у меня хорошая, но очень беспокоится. Она только делает вид, что к тебе расположена.
– А на самом деле?
– Она тебя боится. Она боится, что ты меня обидишь, соблазнишь и бросишь… Она всех мужчин боится, которые могут сделать мне больно. Ты не сердишься на нее?
– Нет.
– Вот письмо. Это письмо от Марго. Она мне прислала его еще весной. Я совсем о нем забыла. А сейчас, когда был этот разговор, я вспомнила.
Лидочка пробежала глазами первую часть письма, перевернула голубой листок и дальше прочла вслух:
– «Я видела Ахмета. Представляешь, он заявился в Одессу, где-то узнал наш адрес, подстерег меня. На извозчике с букетом роз. Ты не представляешь, какое это уморительное зрелище! Я признаюсь тебе, что была тронута. Он такой забавный. Он повел меня вечером в кафешантан. Я делала вид, что я светская львица, для которой все это, как говорят в Одессе, „семечки“. На самом деле ты знаешь, что я никогда там не была. Это очень пошло, но увлекательно и шикарно, Ахмет просадил кучу денег. Я думаю, что он взломщик – он совершенно не считает денег. Я старалась при нем ни слова o my dear friend, а он и не спрашивал. Я ему рассказала о твоем романе с Андрюшей. Роман в письмах – ах, как это мило! И даже рассказала, помнишь, ты мне призналась, как этот Андрюша хотел произвести на тебя впечатление и придумал романтическую историю про сокровище под полом в кабинете его дядюшки или отчима – не помню уж кого. Ахмет тоже смеялся, но он отзывается об Андрюше очень тепло. Хоть и считает его слюнтяем…»
Лидочка скомкала письмо и, как бы перенеся на него злость, швырнула в угол.
Сначала Андрей услышал и понял не ту часть, что касалась сокровищ, а мнение о его характере, которое Лидочку не удивило и не обидело. И это мнение Ахмета!
– Значит, Ахмет сказал неправду, – услышал он голос Лидочки.
– Он забыл, – сказал Андрей. – Не придал значения и забыл. Он бы сказал мне, если бы помнил.
– Андрей, ты самый добрый на свете, – заявила Лидочка. – А я так боялась, что ты рассердишься.
Постучала Евдокия Матвеевна и позвала пить чай.
– Спасибо, – сказал Андрей, – если вы не обидитесь, я уйду.
– Почему? – возмутилась Евдокия Матвеевна. – Сейчас придет Кирюша, мы посидим, вам надо быть среди людей – одиночество в вашем трагическом положении губительно. Послушайте уж моего совета.
– Я хочу попробовать пройти в больницу, – сказал Андрей. – Может быть, Глаше лучше. Может, меня к ней пустят.
– Завтра, – сказала Евдокия Матвеевна. – До завтра ничего не изменится.
Андрюша знал, что не останется здесь. Такая вот шлея ему под хвост попала, как говорила в таких случаях тетя Маня. Она говорила: «Ты, Андрюша, человек мягкий, можно сказать, бесхарактерный – и как многие бесхарактерные люди – страшно упрямый. А упрямство, учти, порок». Андрей и не мог бы сказать, что заставляло его уйти. Но Лидочка поддержала его:
– Мама, неужели ты не понимаешь, что Андрей переживает?
– Вы дорогу знаете? За церковью сразу направо, – сказала Евдокия Матвеевна. – Узнайте там, что надо Глафире. Я завтра могу прийти в больницу и принести. Может, мед ей нужен?
– Спасибо, – сказал Андрей, – я спрошу.
* * *
В больницу Андрей пришел в половине восьмого.
Он спросил внизу у сестры, что сидела за столиком, в какой палате лежит Глафира Браницкая. Хорошо, что следователь сказал фамилию. Иначе он выглядел бы странным самозванцем. Пожилая ухоженная сестра сказала с немецким акцентом:
– К ней нельзя. Состояние тяжелое.
– Вы только скажите мне, в какой палате, – попросил Андрей. – Я завтра приду и уже буду знать.
– Палата седьмая, – сказала сестра. – Для особо тяжелых. А вы кто будете?
– Я ее родственник, – сказал Андрей. – Я специально приехал.
Сестра внимательно поглядела на Андрея и, видно, поверила ему.
– Это ужасная история, – сказала она. – Женщина так изуродована. Я бы на ее месте предпочла умереть.
– А есть опасность для жизни?
– Молодой человек, я не могу с вами это обсуждать. Завтра будет доктор Власов. Мне вообще запрещено говорить. Я обязана, если кто-нибудь будет спрашивать о больной Браницкой, немедленно звонить следователю господину Вревскому. Вот видите телефон? Я сейчас должна его предупредить.
– Он меня знает, – сказал Андрей. – Я с ним уже разговаривал. Он мне не очень понравился.
Что заставило Андрея сказать это?
– Как вы правы, – сказала сестра. – Он очень груб. Но вы не беспокойтесь. Я полагаю, что ваша родственница будет жить. Приходите завтра. Сегодня она еще в беспамятстве.
Попрощавшись, Андрей вышел из дверей госпиталя и остановился снаружи, придерживая дверь, чтобы осталась щель. И стал ждать. Он ждал минут пять. Сестра вставала, уходила, принесла какую-то тетрадь. Но к телефону не притронулась. Значит, Андрей понравился ей более, чем следователь Вревский. И можно не бояться, что она донесет о визитере.
Тогда Андрей пошел вдоль высокого каменного забора до калитки. Калитка не запиралась. Андрей знал об этом, потому что много лет назад Сергей Серафимович лежал в этой больнице. У него был, кажется, колит. Это было летом, Андрей навещал его и приносил тайком запрещенный доктором табак. Отчим ждал его в саду. Они гуляли по саду, и отчим рассказывал ему о растениях, которые там произрастали. Это было в тот год, когда отчим надеялся пробудить в Андрее любовь к ботанике.
В саду было куда темнее, чем на улице. Старые деревья сомкнули кроны над голой землей. Андрей осторожно прошел к светящимся окнам.
Андрею не надо было даже вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в палаты. За первыми тремя окнами были палаты общие. Четвертое окно, задвинутое занавеской, вело в палату, где лежала Глаша.
Андрей заглянул в щель между занавесками. Палата была освещена электрической лампой. Глаша лежала на высокой койке, на спине, неподвижно, руки были протянуты вдоль боков. Лицо было обмотано бинтами, словно у обожженной. Бинты скрывали щеки – только кончик носа и один глаз были наружу. Почему-то не вовремя вспомнился роман Уэллса «Человек-невидимка». Даже стыдно стало, что вспомнился.