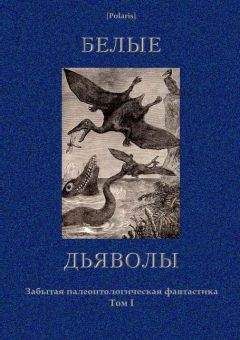Наконец он опустил руку и вновь присел на стул, растерянно мигая. В этот миг лицо сьера Гарсиласио показалось мне совсем юным, почти детским. Длинный нос с горбинкой, большие темные глаза, тонкие яркие губы. Красивый мальчишка, из тех, кто бешено нравится пожилым дамам. Впрочем, не только пожилым. И занесло же этого красавчика сюда!
— Мне сказали, что я должен ответить на ваши вопросы. Но я не понимаю… Я уже сказал все. Все, что мог.
Голос тоже был совсем мальчишеский, высокий, срывающийся на петушиный крик. Петушиный крик с явственным испанским акцентом. Везет мне сегодня на испанцев!
— Этого недостаточно, сьер де ла Риверо, — заметил я самым невозмутимым тоном. — Вы должны сказать не то, что можете, а то, что знаете.
— Знаю? — Он попытался рассмеяться, и вновь мне почудилось, что под этими мрачными сводами прокричал молодой петух. — С вашими-то соглядатаями, святой отец! Да вы знаете больше, чем я!
Это была правда. Трибунал узнал более чем достаточно еще до ареста этого горе-еретика. В деле, экстракт из которого лежал передо мной, имелось все. И записи бесед с друзьями — такими же болтунами, как он сам, и рукопись его нелепой книги, именовавшейся «Ущемление Истины». Он что, спутал истину с грыжей?
— Я сказал следователю все, что мог и что знал, святой отец! И я раскаялся! Слышите! Я раскаялся!
Он даже привстал с табурета. Узкая худая ладонь поднялась вверх, словно сьер Гарсиласио пытался принести присягу. Отвечать я не стал, хотя сказать было что. Он, конечно, и не думал о раскаянии. Обычный прием, чтобы избежать суровой кары, особенно когда попадаешь в Трибунал в первый раз. Джулио Ванини каялся три раза. А нас еще обвиняют в жестокости и непримиримости!
Я вновь поглядел на неровные строчки документа. Не мое дело выводить на чистую воду этого болтуна. Но он мне нужен.
И не только мне.
— Во-первых, не зовите меня святым отцом. Обращение «сьер» нас обоих вполне устроит. А во-вторых… Год назад, сьер Гарсиласио, вы защитили диссертацию и получили степень римского доктора богословия. Ваша диссертация, посвященная вопросу о свободе воли, была написана полностью в духе догматов Святой Католической Церкви…
Он попытался что-то сказать, но я предостерегающе поднял руку:
— Не спешите! Итак, вы пишете вполне ортодоксальную диссертацию и одновременно работаете над книгой, отрицающей основные догматы Церкви. Вас арестовывают, и вы тут же каетесь. Поясните мне, в каком случае вы были искренни: в первом, втором или третьем?
Он молчал, да я и не ждал ответа.
— К тому же вы каетесь, обращаясь к Церкви, к ее власти и авторитету. А в книге, напротив, отрицаете и то и другое. Значит, с этих позиций ваше раскаяние не имеет никакого веса, ведь нельзя каяться перед тем, чего не признаешь!
Он чуть подался вперед, темные глаза блеснули вызовом:
Не каясь, он прощенным быть не мог,
А каяться, грешить желая все же,
Нельзя: в таком сужденье есть порок.
4
— А ты не думал, что я логик тоже? — невозмутимо согласился я. — Итак?
— Что вы хотите, сьер Черный Херувим? — усмехнулся он. — Следствие уже закончено, я все подписал…
— Не закончено, сьер римский доктор. Я приказал продолжить его.
Он осекся, замолчал, а я все ждал, не зная, на что решиться. Лучше всего поговорить с этим парнем по-хорошему. Лучше — но не правильней. Он нас ненавидит. Ненавидит — и предаст, как только покинет эти стены. Ненавидят сильные, значит, этому мальчику кажется, что он сильнее нас.
— Вы знаете, что ваш отец арестован?
Он вздрогнул. Отвернулся. Плечи дернулись, опустились.
— Если знаете, то, наверное, имеете представление о предъявленных ему обвинениях.
Я ждал, что он снова вспыхнет, но ответ прозвучал глухо, словно сьер Гарсиласио за миг постарел сразу на двадцать лег.
— Это недоразумение. Мой отец не разделял моих взглядов. И даже не знал о них.
— Верно, — подхватил я. — Не знал и не разделял. Однако двадцать семь лет назад ему пришлось бежать из Толедо. Вы знаете почему?
Теперь я ждал ответа. Не исключено, что не знал. Ведь все это случилось слишком давно, еще до рождения этого парня.
— Он марран. Но разве это преступление?
Выходит, знал! Ну что ж, так даже проще.
— Быть марраном не преступление, сьер Гарсиласио. А вот тайно исповедовать иудаизм, перейдя в католичество, — дело совсем иное. Когда вас арестовали. Трибунал решил узнать все о вашей семье. В Толедо вашего отца давно ждут…
— Сволочь!
Я перехватил его руку, рванул, завернул за спину, отбросил обмякшее тело.
— Сидеть!
Кажется, я слегка перестарался. Пришлось ждать, пока он перестанет стонать и вновь поднимет голову. Смотреть на парня было неприятно.
— О вашем отце мы еще переговорим — попозже. Сначала о вас, сьер Гарсиласио. Мне нужна от вас прежде всего искренность. Но пока еще вы не готовы к разговору.
— Не дождетесь!
В его глазах вновь горел вызов. Да, по-хорошему не выйдет. Зря!
— Не нужно много смелости, чтобы за бочонком кьянти ругать инквизицию, отправившую на костер Бруно Ноланца и затравившую мессера Галилея. А вот чтобы отвечать за это, смелость как раз требуется.
— Вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю!5
Я едва удержался, чтобы не поморщиться. Петушиный фальцет резал уши.
— Не сравнивайте себя с Ноланцем, юноша. Вы не выдержите то, что выдержал он. И дело не только в этом. Бруно был гений, а вот вы…
— Гений?!
Его изумление мне понравилось.
— А разве вы думаете иначе? Я ведь читал вашу книгу. Не читал, конечно. Но некоторые разделы все же проглядел.
— На это вы меня не поймаете, — подумав, ответил он. — Сначала — разговор по душам, затем — «вторичное впадение в ересь». Знаю! А что касаемо моей книги, то я действительно отзывался о Бруно положительно, как о продолжателе дела великого Николая Коперника. В чем сейчас и раскаиваюсь. И хватит об этом!
— Отчего же хватит? — усмехнулся я. — Хвалить Бруно как продолжателя дела Коперника, конечно, нехорошо, хотя тут особых заслуг у Ноланца я не вижу. Торунский Каноник был неплохим математиком, не более. Гелиоцентрическое учение было разработано Аристархом Самосским еще полторы тысячи лет назад, а все основные идеи Коперник позаимствовал у своего учителя Юрия Дрогобыча. Не слыхали о таком?
Не слыхал, конечно. И мало кто об этом знает. А вся вина Дрогобыча-Котермака в том, что он не дожил и до сорока, не успев закончить труд своей жизни. Копернику понадобилось полвека, чтобы завершить работу учителя.