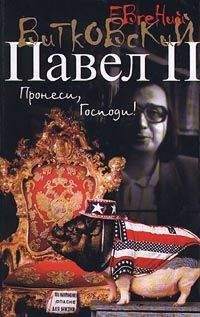Перед ним возник О'Хара.
— Генерал, простите: вот это обнаружил Нарроуэй через десять минут после вашего ухода, — он протянул на ладони расписное рождественское, тьфу, не рождественское, а пасхальное! — яйцо, — оно лежало у Нарроуэя под столом. Присмотритесь к обоим концам.
— С Рождеством вас, О'Хара. Вы ведь католик?
Референт выпрямился.
— Воспитывался в обители Св. Брандана в Уолсингеме, генерал!
— Сирота, значит?
— Сирота, генерал.
— Тогда тем более… э… с католическим Рождеством, друг мой. Можете идти. Сегодня ваши услуги больше не понадобятся. Впрочем, скажите Эриксену, чтобы последний раз сварил кофе.
Якобы-ирландец вышел. Генерал устало покатал на ладони расписную скорлупу; содержимое было аккуратно выпущено через два отверстия, на тупом конце и на остром. Ясно же как белый день: кто-то из засланных болгарами или кем там еще шпионов принес это яйцо, воском запаянное, со стороны. А в нем, газообразный, сидел этот восточный дурачок. Какое счастье, что Бустаманте не дали в свое время покончить с собой! Ведь он собирался отравиться из-за того, что эта самая сука Луиза, кто ее фамилию теперь вспомнит, чего-то там ему не то не дала, не то недодала!
Бинг Кроссби за стеной завел что-то другое — слава Богу, Рождество уже встретили. Скоро и спать пойдут. Неужели!.. Быть может, выпадет возможность сегодня же уйти в древний Китай, ну, хоть на полчаса?
В дверь тихо поскреблись, на пороге возник робкий Эриксен.
— К вам Ямагути-сан, — нерешительно произнес он, понятия не имея, как отреагирует генерал в такой час на визит главного медиума Соединенных Штатов.
— Прошу, — отозвался генерал с оттенком ненависти, но тут же взял себя в руки.
В кабинет вошел совсем маленький, едва пяти футов ростом, в европейском костюме с бабочкой вместо галстука, японец. На носу его сверкали толстенные очки, в коих медиум, видимо, почти не нуждался — он шел к столу Форбса, закрыв глаза. Форбс не удивился, он знал, что Ямагути глаза открывает два-три раза в месяц. Японец учтиво поклонился и так же, не открывая глаз, присел в кресло у стола.
— Добрая ночь, генерал, — сказал японец, — простите, другого времени не будет. С вами желает говорить предиктор Джонатан Уоллас.
Форбс подался вперед: Уоллас умер уже десять лет тому назад и никогда не позволял тревожить себя в царстве теней. А теперь вот появился по доброй воле.
— Я слушаю.
— Предиктор Джонатан Уоллас, господин генерал, от всей души поздравляет вас с наступившим Рождеством и желает вам большого здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни.
Японец замолк.
— Я слушаю, Ямагути-сан.
— Это все, господин генерал. Предиктор Уоллас удалился из пределов слышимости. Я не могу тревожить его насильно, он один из посвященных. Надеюсь, что не слишком вас обеспокоил.
Генерал посмотрел на закрывающуюся за японцем дверь и вздохнул. Дверь выходила на запад, туда, где лежал рай будды Амитабы. Ох, как далеко было до него нынче! Генерал залпом выпил холодный кофе.
Он получил то, чего так страстно желал и к чему так долго стремился, и, может быть, нет на свете большего счастья.
Х.Л. БОРХЕС. ДРУГАЯ СМЕРТЬ
Роковые одиннадцать часов снова нанесли партии почти непоправимый урон: братья Ткачевы исчезли в направлении магазина, а поскольку дни шли предпраздничные, скоро ждать их назад не приходилось. Так что, даже считая пришлого Петра Герасимовича, да еще Борис Борисович, гадина с трубкой, да еще сам Степан, партия не составлялась, а играть в домино втроем серьезный человек не станет. Пришлось звать к столу дворника, рожу китайскую. Вообще-то в обычных дворах конец декабря, когда чуть не минус двадцать на дворе, холодрыга дай Бог, домино не бывает. Но во дворе Степана был особый, возле котельной, закут, который доминошникам в холодное время служил верой и правдой. Любой другой дворник, конечно, занял бы его под жилье, не ютился бы в неотапливаемой конуре. Но этой китайской роже холод, видать, был в самый цвет: тренируются они, что ли, на тот случай, если мы, забздев, им Сибирь отдадим по самый Урал?
Вообще-то Степан зиму меньше любил, чем там лето какое-нибудь. Летом к домино человек двадцать выходит, а то и более, все люди интересные, оборонного значения многие, а кто не оборонные, у тех все равно много важного можно узнать. Особенно кто радио вражеское слушает. Эти сведения уж точно полагалось вбирать в оба уха, ничего не упускать. В простоте душевной Степан полагал, что в Маньчжурии, конечно же, об этих передачах ничего не знают, не слыхать их там, либо же русского языка не понимают, только один у них переводчик там есть, чтобы его, Степана, письма переводить, как документы самой первой важности, — Степан даже внешне его себе представлял, древний-древний такой старец, лебединое перо в тушь макает, письменами перелагает новости для императора лично. В свое время кто бы, к примеру, доложил императору о факте обмена врага народа писателя Пушечникова на стратегически важную, оборонного значения статую, могущую быть использованной также и в наступательных целях. Даже Хуан, когда это Степаново письмо переводил, был потрясен: статуя, в оборонных, — куда ни шло, но в наступательных — такого даже в Китае пока не умеют. А ведь про Пушечникова Степан и знать бы не знал, ежели бы Борис Борисович эти самые голоса вражьи не слушал день и ночь. И случалось так, что передача «Голоса Америки», миновав сперва этап дурного перевода на русский язык, затем, изувеченная глушилками, фильтровалась через проспиртованные мозги Бориса Борисовича, доходила до безумного сознания Степана, а затем, обретя полную неузнаваемость в переводе на бурятский язык, докатывалась до Пекина. Ну, а там, видимо, делали выводы, и даже иной раз далеко идущие.
Никогда в молодости не думал Степан, что можно жить такой содержательной жизнью. Столько интересных вещей, сколько теперь он узнавал ежедневно, не знал даже, наверное, самый культурный человек из тех, с кем Степан в жизни был знаком. Был это врач один, тоже из зеков, он трупы все резал, проверял, чтобы никого из покойников непотрошеным не похоронили, — а сам Степан при нем на подхвате числился, рабочим при морге кантовался. Очень, помнится, хорошо этот самый врач про Маньчжурию рассказывал. Или не про Маньчжурию, а про то, как музыка играет, но все равно за душу очень брало. Даже теперь, как вспомнится так сразу и хочется все отдать за дело победы Маньчжурии. Над всеми. Звали врача, помнится, Феликс Эдмундович. Или Эдмунд Феликсович? Нет, не вспомнить. Да и к чему это сейчас? Сейчас за пришлым этим самым смотреть надо, за Петром Герасимовичем. На кого сейчас еще донос напишешь, когда партия в ущербе таком?
Перво-наперво: еврей он, не иначе. По всему видать: во-первых, с бакенбардами. Во-вторых — в домино играть ни хрена не умеет, лучше с ним как с напарником не садиться. В-третьих, самое важное: всяких оборонных вещей знает до фига. И про блядей как рассказывает! Ясно, еврей. И еще одно: стакан в кармане носит. А ведь не пьет, — на хрена и ему тогда стакан? Стало-ть, не только еврей он, а и шпион. «Надо и мне стакан носить тоже тогда!» окончательно решил Степан и с треском врубил на стол «сильную кость» — дубль «пять-пять». Дворник, ход которого был дальше по кругу, безропотно и очень тихо положил к ней вялые «пять-один». Борис Борисович молодецки хряснул по столу «пять-три». Ну, и шпион Петр Герасимович, понятное дело, не упустил случая зарубить ход своему партнеру, дворнику. Нет, уж лучше бы и не играл вовсе! Такого не только в напарниках иметь страшно, с таким лучше вообще в одну партию не лезть!
Степан раздражался, не понимая причины, — она же была проста: сегодня Петр Герасимович, старик с неопрятными бакенбардами, против обыкновения почти все время молчал. И зорко поглядывал в полуподвальное окошко — ждал кого-то. Рампаль и вправду ждал появления Софьи. С тех пор, как надежда на ее отречение рухнула, почти единственным делом, которое держало оборотня в Свердловске, был присмотр за неистовой царевной, подслушивание ее телефонных разговоров, собирание прямых и косвенных компрометирующих данных, — надо сказать, не совсем безуспешное, — ну, и присутствие «на случай пресечения»: поведи себя Софья совсем уж нехорошо, Рампаль мог ей доказать, что это она сама себе морду набить так вот запросто может, а, скажем, уссурийскому тигру морду бить будет уже труднее. Помимо Софьи, Рампаль слегка присматривал и за Михаилом. Касательно этого последнего, в основном полагалось следить лишь за тем, припрется он к запертой романовской квартире, уже совершенно пустой, или нет. Пока что его там видно не было. Да и вообще видно его было почти только у винного отдела того самого магазина, где Рампаль его впервые встретил: к местожительству Михаила, видать, ближе удобной винной точки не было.