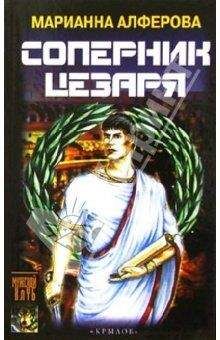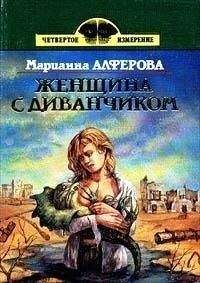Поэт Катулл много пьет. Сестрица Клодия им интересовалась.
Из записок Публия Клодия Пульхра
Первые числа сентября 54 года до н. э
Клодий не думал, что Катулл примет его приглашение. На отправленное письмо поэт не ответил, но на следующий день явился к обеду; возможно, в надежде увидеть Клодию. Но на обеде никого больше не было, кроме хозяина и единственного гостя. Катулл не удивился. Он лишь пожелал, чтобы вино не разбавляли, и Клодий выполнил просьбу. Подавали устрицы, камбалу и грибы. На горячее баловались зайчатиной. Катулл пробовал все с брезгливой гримасой и бросал куски, едва тронув зубами. То-то лары обрадуются щедрым дарам! И слуги на кухне — вместе с ларами, доедая рыбу с подливкой из полбы.
Стол накрыли в перистиле — жара была страшная, никто в Риме не помнил такой духоты. Вода в фонтанах текла теплая, почти горячая, вода в Тибре — тоже была теплая и к тому же воняла.
— Твоя последняя эпиграмма на Цезаря едкая, как солдатская моча. Это похоже на личную месть:
«Славно два подлеца развратных спелись Хлыщ Мамурра[132] и любострастник Цезарь», — процитировал Клодий. — Уж не ревнуешь ли ты?
— Мою сестру Клодию к Цезарю?
Поэт вздрогнул, как от физической боли:
— Неужели ты думаешь, что такую шлюху, как твоя сестра, в самом деле можно любить?
— Думаю, что да, можно любить!
Спору нет, его сестра не отличалась строгостью поведения, но она никогда не была вульгарной. Молва грязнила ее зло и не всегда справедливо.
— Можно… — то ли подтвердил, то ли передразнил Катулл.
— А твои стихи, разве в них не говорилось о любви? — Клодий припомнил, как рыдал Катулл, как рвался, узнав об измене Клодии, как проклинал Целия Руфа.
— При чем здесь стихи? Я пишу их Лесбии. Лесбия — не твоя сестра. Или ты не знаешь, что поэты выдумывают свои чувства? Когда стило скребет воск на табличке, человек во мне засыпает, и говорит мой гений. Он общается с духом Клодии, рождая стих. Мой гений расправляет крылья… Но мой гений — это не я, юнона Клодии — это не Клодия. Юнона-Лесбия… Да, мне больно, но я не могу разделить восторг моего гения. Я вижу, что она — дрянь, я знаю, что она — шлюха. Но мой гений подле нее воспаряет ввысь. Так рождаются стихи, и в них звучат два голоса — влюбленного гения и несчастного человека. Я читаю свои стихи всяким мерзавцам, всем подряд, кто только согласен слушать. Это забавно: все принимают мои стихи за истину и стараются разглядеть в распутной Клодии мою Лесбию. Ха-ха! — Катулл скривил губы, изображая смех. — Одни поражены, другие не верят. Но все почему-то считают меня фантазером и торопятся открыть мне глаза, рассказывая, какова на самом деле моя Лесбия.
Клодий усмехнулся: несколько лет назад он говорил с юношей, который постоянно краснел и смущался, и был польщен, что знатная матрона допустила его в свой дом и в свою постель. Теперь перед Клодием был человек еще молодой, но изможденный, с запавшими щеками, с синими кругами вокруг синих глаз, с заострившимся носом и капризно изломленным ртом; на лбу его блестели бусинки пота. Поэт возлежал за столом в тунике с длинными рукавами — нелепая восточная мода, позорящая Рим, — и жеманно изгибал кисть руки, поднося к губам бокал фалерна. Он лениво цедил слова, он даже век не открывал полностью. Не понять, лень то была или болезненная слабость.
— От чего я по-настоящему страдаю, так это от нищеты, — проговорил Катулл. — Отец отказывается оплачивать мои долги. Надоело выпрашивать у него каждый асс и слышать попреки.
Клодий положил на столик перед Катуллом кожаный мешок.
— Что это?
— Деньги.
Катулл несколько мгновений смотрел на туго набитый кошель.
— Квадранты? — спросил он, кривя губы.
— Золото.
— А, значит, от Цезаря. — На самом деле деньги были не от Цезаря — от сестрицы Клодии. Но этого хозяин гостю сообщать не стал. — Ему ну оч-чень не нравятся мои эпиграммы! — Катулл решительно отодвинул кошель. — От него — не возьму. Ни асса.
— Почему ты его ненавидишь? Если не из-за сестры, то почему?
Катулл повернул к Клодию больное лицо:
— Почему я должен его любить? Люди Цезаря слишком много воруют. Ты не знаешь, почему они столько воруют? Ты видел дом Мамурры? Видел? Этот тип отделал стены мраморными плитами, как будто построил не жилой дом, а храм. Я не люблю, когда воруют. Римляне не должны воровать. Это нас позорит. Рим нельзя позорить. Позор Мамурры ложится на меня. Я чувствую его серую плесень на моем лице. — Катулл стал яростно тереть щеку. — Когда кто-то оскорбляет богов, он оскорбляет себя. Когда кто-то ворует, он обкрадывает нас. Вор крадет нашу доблесть. Где наша доблесть? Где? Где? — Катулл стал ловить что-то невидимое в воздухе.
— В провинциях все воруют. Быть нынче честным — своего рода позерство, жажда легкой славы. Цезарь не обращает внимания на такие мелочи. Зато он умнее других, дальновиднее других. Ты зря назвал его полузнайкой.
— Тем хуже. Цезарь убивает Республику. Он схватил ее за горло и медленно погружает ей нож в живот. А мог бы спасти. За это я его ненавижу. За то, что умен. И за то, что он не делает то, что должен делать. Почему?! — в ярости закричал Катулл. И лицо его по-детски скривилось, губы задрожали. — Почему?!
Клодий не успел ответить — в триклиний заглянул Зосим и поманил патрона.
Клодий вышел.
— Что случилось?
— Тут такое дело… Прибежала одна женщина… ну, она вольноотпущенница Помпея, и… Говорит, Юлия рожает и никак родить не может. Служанку послали за самой умелой повитухой, а она не нашла. Совершенно обезумела, кинулась по богатым домам — спрашивает, нет ли у кого повитухи. К нам вот постучала.
— Погоди! Где эта женщина?
— Да на кухне сидит. Ей дали немного вина. А то она ехала верхом на муле. Помпей сейчас в своей подгородной усадьбе.
— Послушай… — Клодий провел ладонью по щеке. — Бритву мне. А впрочем, не надо! Задержи эту женщину. Скажи, у нас в доме как раз гостит самая лучшая в Риме повитуха. Она у Фульвии роды принимала и осталась на время. Ясно?
Он бросился в комнату жены. Та уже раздевалась. Служанка в спальне стелила кровать.
— Ты рановато. Я еще не готова, — кокетливо улыбнулась Фульвия. — Разве поэт уже ушел?
— Я не к тебе. То есть… Сейчас некогда!
— Новая авантюра? — Фульвия состроила рассерженную гримасу своему отражению в серебряном зеркале.
— Позови повитуху, что принимала роды, — приказал он служанке. — Скажи ей, чтобы одевалась. Немедленно. Мы едем.
— Что? — Фульвия перестала строить гримасы зеркалу и повернулась к мужу. — Что ты еще придумал? Куда собрался?
Он выхватил из ее рук серебряное зеркало, погляделся. Ладно, бриться не будет, так сойдет. Потом схватил со столика коробочку из слоновой кости и напудрил щеки толченым мелом.
— Неважно. То есть, наоборот, очень важно. Зови повитуху! И вели оседлать Упрямца. Поскачем верхом — так быстрее. — Он вытолкнул служанку из комнаты. — Мне нужно что-нибудь из твоей одежды. Что могла бы надеть немолодая солидная женщина.
— Нет, точно сумасшедший, — прошептала Фульвия.
— У тебя есть парик? Ты говорила, что купила белый парик из галльских волос.
— Ну, купила. И что?
— Давай сюда.
— Он тебе будет мал.
— Ерунда. Как-нибудь натяну.
Клодий вывалил кучу жениной одежды прямо на пол. Ненужное отбрасывал — шелковые платья полетели во все стороны. Наконец нашлась туника из тонкой шерсти — ее Фульвия надевала во время беременности.
— Что ты задумал? — повторила Фульвия.
— Юлия рожает и родить не может. Я приведу к ней повитуху.
— А сам-то ты при чем? Ты что, медик?
— Нет! Но я должен там быть!
— Зачем?
— Должен!
— Послушай, что ты переживаешь? Если Юлия не может родить, ей рассекут живот и вытащат ребенка. Сам Цезарь, говорят, так родился.
— Она не выдержит — умрет от боли.
— Ах, бедное, хрупкое существо. Ты сумасшедший, Клодий! Если тебя опознают, то прикончат. Тут же, на месте! Это тебе не таинства Доброй богини. Помпей лично выпотрошит.
— Выкручусь. Теперь мне нужна палла.
Вернувшаяся служанка без удивления наблюдала за переодеванием хозяина.
— Доминус, возьми лучше мой гиматий, — предложила она. — И парик ни к чему надевать. Голову шарфом обмотай, удобно будет, и голове не так жарко. Духотища жуть какая!
— Зачем тебе это нужно, а? Ты что, ее любовник? — не унималась Фульвия.
— Дура!
— Не смей меня ругать!
— Да ты сама ругаешься, как старый центурион!
— Да, ругаюсь! А ты — попридержи язык.
Клодий пожал плечами: спорить не было времени.