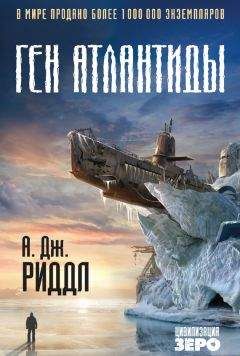– Какое?
– Ты приходила ко мне в контору?
– Ах да. Хотела узнать, не вырвешься ли ты на ленч, но мне сказали, что ты ушел.
– Да. Э-э… проблема в порту, – уже в сотый раз вру я Хелене. Легче ничуть не стало, но альтернатива куда хуже.
– Риск работы пароходного магната, – улыбается она. – Что ж, может, в другой раз.
– Может, через пару недель, когда сможем пойти на ленч втроем.
– Вот уж действительно, втроем. А может, и вчетвером; я чувствую себя ужасно большой.
– Но ты так не выглядишь.
– Ты блестящий врунишка, – говорит она.
Блестящий врунишка – грандиозное преуменьшение.
Наше веселье прерывает какой-то стук в соседней комнате. Я поворачиваю голову.
– Обмеряют гостиную и салон внизу, – поясняет Хелена.
Мы уже провели перестройку, устроив детскую и расширив три спальни для детей. Я купил большой городской дом с отдельным флигелем для прислуги, и даже вообразить не могу, что же еще может быть нам нужно.
– Я думала, мы могли бы устроить танцевальную залу с паркетными полами, как в доме у моих родителей.
У каждого свои пределы. Хелена может делать с домом, что пожелает; это не проблема.
– А если у нас будет сын? – спрашиваю я.
– Не тревожься, – она похлопывает меня по руке. – Я не стану подвергать твоего сильного американского сына унылым хитросплетениям танцев английского света. Но у нас будет девочка.
– Откуда ты знаешь? – поднимаю я брови.
– У меня есть предчувствие.
– Тогда нам нужна танцевальная зала, – с улыбкой резюмирую я.
– Кстати, о танцах: сегодня курьер доставил приглашение. Ежегодное собрание и рождественский бал «Иммари» в этом году состоится в Гибралтаре. То-то будет празднование! Я звонила маме. Они с отцом там будут. Я бы хотела пойти. Уверяю тебя, я не буду утруждаться.
– Разумеется. Добро.
Кейт прищурилась, пытаясь продолжать чтение. Солнце опускалось за горы, и под ложечкой у Кейт тревожно засосало. Она бросила взгляд на Дэвида. Лицо его хранило непроницаемое, почти бесстрастное выражение. А может, мрачное.
Будто прочитав ее мысли, Мило вошел в большую комнату с деревянными полами, неся керосиновую лампу. Запах от нее Кейт понравился, как-то успокоив ее.
Поставив лампу на столик у кровати, где она могла бы освещать дневник, Мило сказал:
– Добрый вечер, доктор Кейт. – Увидев, что Дэвид тоже бодрствует, он просветлел. – И еще раз здравствуйте, мистер Ри…
– Теперь пусть будет Дэвид Вэйл. Приятно видеть тебя снова, Мило. Ты сильно подрос.
– И это не все, мистер Дэвид. Мило изучил древнее искусство общения, известное вам как… английский.
– И выучил его хорошо, – рассмеялся Дэвид. – Я тогда гадал, выбросят они «Розеттский камень» или все-таки отдадут тебе.
– Ах, мой таинственный благодетель явил себя! – Мило снова отвесил поклон. – Благодарю вас за дар вашего языка. А теперь я могу отплатить за дар, по крайней мере частично, – он по-заговорщицки пошевелил бровями, – вечерней трапезой?
– Будь любезен, – засмеялась Кейт.
Дэвид бросил взгляд из окна. Последний лучик солнца угас за за горой, как дотлевший фитиль свечи.
– Вам следует отдохнуть, Кейт. Дорога очень долгая.
– Отдохну, когда закончим. Для меня чтение – это отдых.
И она снова открыла книжку.
23 декабря 1917 года
Пыль оседает, и я вглядываюсь сквозь нее. Потом прищуриваюсь, не веря собственным глазам. Мы обнажили новые ступени, но и что-то еще – отверстие наподобие прорехи в металле.
– Вошли! – вопит Рутгер, бросаясь вперед, во тьму и клубы пыли.
Я хватаю его, но он вырывается. Моя нога несколько поправилась – настолько, что я каждый день принимаю лишь одну пилюлю от боли, от силы две, – но за ним мне нипочем не угнаться.
– Хотите, чтобы мы отправились за ним? – спрашивает марокканский десятник.
– Нет, – отвечаю. Я не пожертвую ради спасения Рутгера ни одним из них. – Дайте мне одну из птиц.
Я беру канареечную клетку, включаю налобный фонарь и ковыляю в темное отверстие.
Рваный проход – явно результат взрыва или удара. Но его сделали не мы. Мы просто нашли его. Толщина металлических стен достигает почти пяти футов. Входя в сооружение, до которого «Иммари» пыталась добраться почти шестьдесят лет – сначала со дна морского, потом из-подо дна, – я наконец ощущаю прилив благоговения. Первый участок представляет собой коридор в десять футов шириной и тридцать длиной. Он выходит в круглый зал с такими чудесами, что и не опишешь. Первое, что бросается мне в глаза – это выемка в стене с четырьмя большими трубами наподобие гигантских пробирок или удлиненных стеклянных банок для консервирования, вытянувшихся от пола до потолка. Они пусты, не считая призрачного белого света и тумана, клубящихся у дна. Подальше еще две трубы. Одна, по-моему, повреждена: стекло треснуло и тумана внутри нет. Но другая, рядом… там внутри что-то есть. Рутгер видит это одновременно со мной, и он уже у трубы, будто чувствующей наше присутствие. При нашем приближении туман рассеивается, будто занавес, распахнувшийся, чтобы явить свой секрет.
Это человек. Нет, обезьяна. Или нечто среднее.
Рутгер оглядывается на меня, но впервые на его лице написано не высокомерие или презрение. Он озадачен. Возможно, напуган. Я-то уж наверняка.
Я кладу руку ему на плечо и вновь начинаю озирать комнату.
– Ничего не трогай, Рутгер.
24 декабря 1917 года
Хелена в платье так и сияет. Портниха потратила на него неделю, а я – небольшое состояние, но оно окупает и ожидание, и каждый потраченный мною шиллинг. Она лучезарна. Мы танцуем, вдвоем игнорируя ее обещание не утруждаться. Я не могу ей отказать. По большей части я стою столбом, но с болью можно совладать, и наверное, единственный раз в жизни мы в равном положении на танцевальной площадке. Музыка замедляется, она кладет голову мне на плечо, и я забываю об обезьяночеловеке в трубе. Мир снова кажется нормальным – впервые с той поры, как взорвался тоннель на Западном фронте.
Потом, как туман в трубе, все проходит. Музыка умолкает, и лорд Бартон держит речь, подняв бокал. Он возглашает тост за меня – нового главу пароходства «Иммари», мужа его дочери и героя войны. По всему залу кивающие головы. Звучит шутка о современном Лазаре, воскресшем из мертвых. Смех. Я улыбаюсь. Хелена обнимает меня покрепче. Бартон наконец договорил, и празднующие по всему залу пьют шампанское и кивают мне. Я отвешиваю глупый полупоклон и сопровождаю Хелену обратно к нашему столику.
В этот момент по какой-то неведомой мне причине я могу думать лишь о времени, когда последний раз виделся с отцом – за день перед отправкой на фронт. В тот вечер он был пьян как сапожник и потерял самообладание – в первый, последний и единственный раз на моей памяти. В тот вечер он рассказал мне о своем детстве, и я понял его – или так мне казалось. Насколько вообще можно понять хоть какого-то человека?
Мы жили в скромном доме в центре Чарльстона, Западная Вирджиния, стоявшем обок домов людей, работавших на моего отца. Его ровня – прочие владельцы производств, коммерсанты и банкиры – жили в другом конце города, и отцу это нравилось.
Он вышагивал по гостиной и говорил, говорил, брызжа слюной. Я сидел там в своем новехоньком бежевом мундире с единственной бронзовой шпалой второго лейтенанта на воротнике.
– Ты выглядишь так же глупо, как другой знакомый мне человек, пошедший в армию. Он был почти вне себя от счастья, когда прибежал обратно в хижину. Размахивал письмом в воздухе, будто его написал сам король. Зачитал его нам, но тогда я не все понял. «Мы перебираемся в Америку – в место под названием Вирджиния…» Война между штатами вспыхнула года за два до того. Не помню в точности, когда именно, но к тому времени она стала довольно кровавой. Обеим сторонам не хватало людей – свеженького пушечного мяса. Но если ты был достаточно богат, идти тебе было не обязательно. Ты мог послать замену. Какой-то богатый южный плантатор нанял твоего деда вместо себя. Заместителем. Подумать только, нанять другого человека, чтобы тот погиб на войне вместо тебя – всего лишь потому, что у тебя есть деньги… Когда возобновят воинскую повинность на этот раз, я уж прослежу в Сенате, чтобы никто не мог отправить вместо себя заместителя.
– Призыв не потребуется. Тысячи отважных людей идут добровольцами…
Рассмеявшись, отец налил себе еще порцию.
– Тысячи отважных людей. Вагон и маленькая тележка дураков – вступающих в армию, потому что думают, что их ждет слава, а может, известность и приключения. Им неведома цена войны. Цена, которую приходится платить… – Тряхнув головой, он сделал еще изрядный глоток, почти опустошив бокал. – Весть скоро разлетится, и придется объявить призыв, в точности как штатам во время Гражданской войны. Они сделали это не сразу, через годы после начала бойни, когда люди уже были сыты ею по горло, тогда-то и ввели воинскую повинность, и богачи стали подписывать бедняков вроде моего отца. Но почта до канадской границы идет долго, особенно если ты дровосек, живущий далеко от города. Пока мы добрались до Вирджинии, этот плантатор уже нанял другого заместителя; он сказал, что от твоего деда не было вестей, а он боялся, что придется явиться лично, не приведи Господи. Но мы были в Вирджинии, а мой отец чертовски твердо вознамерился воевать за состояние – до тысячи долларов, вот сколько платили заместителям, а это было состояние, если ты сможешь его забрать. Ну, а он не смог. Он нашел другого плантатора с тем же прицелом, и надел этот разнесчастный серый мундир, и погиб в нем. Когда Юг проиграл, общество рухнуло, и огромный участок земли, обещанный твоему деду в качестве платы, купил какой-то северный коммивояжер на крыльце окружного суда по центу за доллар. – Он наконец сел. Бокал его был пуст.