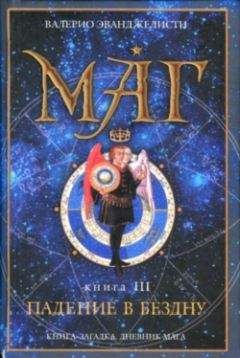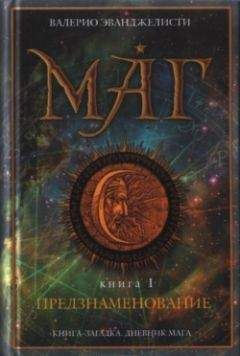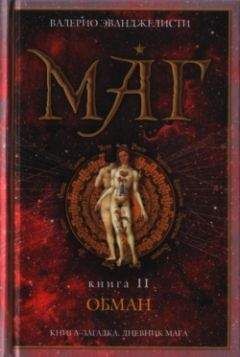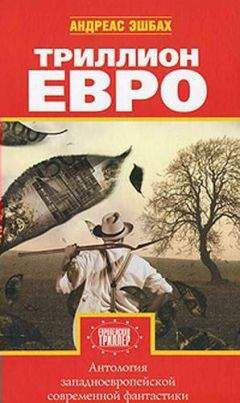Произнося эту тираду, брат Гизлери покосился на кардинала д'Альтемпса. Тот улыбнулся.
— Брат Гизлери, я состою в родстве с Медичи, но принадлежу к миланской ветви рода. И потом, вы прекрасно знаете, что я никогда не стал бы вмешиваться в защиту еретика. Тот, кто этим займется, будет мне весьма подозрителен. Думаю, что и вам тоже.
Великий инквизитор подошел к креслу, где раньше сидел Михаэлис, и опустился в него.
— Именно с таким случаем я и столкнулся. Несколько дней назад в Рим примчалась любовница Симеони, некая Джулия Чибо-Варано. В полном отчаянии она явилась ко мне, несмотря на то что отлучена от церкви… Полагаю, падре Михаэлис, вы с ней знакомы.
Иезуит вздрогнул. Сердце у него бешено колотилось, когда он ответил, безуспешно пытаясь изобразить равнодушие:
— О да… Я думал, она в Париже. Никак не мог себе представить, что она явится сюда.
— Откуда такая уверенность? Вы приставили к ней слежку?
Михаэлису все никак не удавалось успокоиться.
— Да… то есть нет… но я знал, что она при дворе.
— Но она здесь и рассказывает гораздо больше, чем ее возлюбленный.
— Вы… ее арестовали? — Голос иезуита дрожал, но он ничего не мог с собой поделать.
В глазах брата Гизлери появилось ироническое выражение. Он обладал необычайной способностью мгновенно менять выражение глаз, словно в нем жили сразу несколько душ.
— Нет, хотя вполне мог это сделать, учитывая, что она отлучена от церкви и связана с колдуном. Хотя она, по правде говоря, уверена, что отлучение с нее снято благодаря вмешательству Алессандро Фарнезе. Я с ним говорил, и он такой факт полностью отрицает.
Падре Михаэлис сглотнул.
— Но вы собираетесь заключить ее в тюрьму?
— Успокойтесь, не собираюсь.
Это «успокойтесь» прозвучало сардонически, словно инквизитор говорил иезуиту: «Учтите, что мне все известно».
— Эта женщина мне полезнее на свободе. Пока я не разрешил ей свидания с ее некромантом, но дал понять, что дальнейшие разоблачения могут заставить меня сменить позицию. Она целые дни проводит в моей прихожей. Ей еще не понять, что, увидев Симеони, она его вряд ли узнает: в нем не осталось ничего человеческого.
Падре Михаэлис был потрясен и не знал, что сказать. Воцарилось долгое молчание, которое нарушало только шуршание листов рукописи в руках д'Альтемпса. За окном пошел снег.
Глаза брата Гизлери снова поменяли выражение и стали приветливыми, почти веселыми.
— Ну же, падре Михаэлис, не будьте таким мрачным. Сейчас я сообщу вам прекрасную новость. Я уже порекомендовал вас на должность великого инквизитора Франции, на место кардинала де Лорена. Это настроит против меня мой орден, который не склонен выпускать из рук бразды правления таким важным органом, как инквизиция, но меня это мало заботит. Ваша деятельность в отношении Карнесекки убедила меня, что никто, кроме вас, недостоин этой должности.
— Понтифик не утвердит моего назначения.
— Кто знает! Его здоровье сильно пошатнулось. Надеюсь, конечно, что Господь будет его хранить, но боюсь, что долго он не протянет. Что-то говорит мне, что все ваши надежды будут сбываться, неизменно и неуклонно… пока не появятся новые обстоятельства, которые смогут этому помешать…
Первая фраза инквизитора сразу освободила падре Михаэлиса от всех тревог, после последней он снова помрачнел.
После дождей, холодов, наводнений, засух и преходящих эпидемий на Прованс обрушилась черная чума. Она начала проявляться в худших своих признаках под беспощадным солнцем лета 1565 года.
Мишель уже целые годы не видел вереницы повозок с умершими, не слышал криков alarbres, ему навстречу не попадались шеренги медиков в тяжелых кожаных жилетах и «клювах», окуривавших город. Все это напомнило бы ему молодость, да только Салон теперь был не тот: разрушенный, измученный город притих под слоем песка и тонкой пыли. Чтобы понять, как изменились времена, достаточно было бросить взгляд на полуразрушенные, заброшенные дома, плоды недавней гражданской войны.
— Ну вот, свой долг я исполнил, — прошептал он, выходя от нотариуса Жана Роше.
Шевиньи заботливо его поддерживал.
— И даже слишком, — отозвался секретарь. — Сто пистолей на содержание канала Крапонне! Вы и ваша жена намного щедрее многих салонских нотаблей!
— Мальчик мой, если бы не этот канал, Салон голодал бы сейчас, как голодает большая часть Франции. Благодаря этой ниточке проточной воды мы можем обмывать умирающих и содержать лазарет в чистоте. И не случайно здешнее население, несмотря на пятьдесят умерших, решило остаться в городе и пытается заниматься своими делами. Если уйти в другие места, можно найти больше врачей, но меньше воды. Вода — это жизнь.
Произнося эти слова, Мишель наблюдал за двумя санитарами в похожих на птичьи клювы масках, пропитанных ароматическими растворами, со стеклами для глаз, которые пытались войти в дом к больному. Темноволосая девушка кричала, высунувшись в окно:
— Здесь нет зачумленных!
Но это была истерическая ложь, потому что лицо девушки покрывала землистая бледность, и она то и дело трогала болевшие подмышки.
— А кроме воды, вы ничего не делаете для больных? — спросил Шевиньи. — С вашим колоссальным опытом вы могли бы быть очень полезны.
— Да, почему вы ничего не делаете? — загремел у них за плечами чей-то бас.
Владелец громогласного баса тоже вышел из дома нотариуса Роше. На нем была военная форма с гербом графа Соммерива. Он, казалось, питал полное равнодушие к тому, что творилось в городе, и держал под мышкой снятый шлем, хотя тот мог служить неплохой защитой от инфекции.
— А, это вы, Триполи, — радушно сказал Мишель. — Прежде всего, спасибо, что засвидетельствовали дарственную. Что же до вашего вопроса, у меня есть две причины, по которым я не могу включиться в работу. Первая: боюсь, то, что я принимал за подагру, на самом деле водянка. Я по нескольку дней не могу помочиться, и жидкость уходит в ноги, непомерно их раздувая. Я уже почти не могу передвигаться.
— Вам и не надо двигаться! — воскликнул Шевиньи, крепко прижимая к себе учителя, словно тот мог ослабеть прямо у него на руках. — Я сам могу приготовить яичный раствор и другие средства по вашим рецептам. А потом буду их разносить.
Мишель отрицательно покачал головой.
— А вот тут вступает в силу вторая причина моего бездействия. Со временем я убедился, что чуму порождает война. Война, чума и голод составляют единый цикл, который венчается смертью. Пахучие эссенции и прочие средства не смогут остановить заражение. Это сможет только мир. Но мир — не лекарство.
— Но теперь-то мир, — заметил Шевиньи.
Триполи застыл на месте.
— И это вы называете миром? Реформатскую церковь преследуют, и она может собираться на молитву только в немногих загородных замках. Все эти доморощенные милиции под командованием Фоссанов, Порселе и Ришелье, которые надо бы распустить, законсервировали оружие и продолжают маршировать парадом. Во всей стране царит двойная мерка и двойная мораль.
Шевиньи приподнял бровь.
— Сударь, мне кажется, что вы, известный гугенот, снова вернулись к должности командующего войсками в регионе. На что же вы жалуетесь?
— Молодой человек, уж не хотите ли вы, чтобы я прямо здесь выпустил вам кишки и бросил ваш труп на корм собакам?
— Успокойтесь, друзья, — вмешался Мишель.
И тут совершенно неожиданное обстоятельство заставило всех замолчать. Возле собора какой-то больной отчаянно сопротивлялся санитару и не желал, чтобы его грузили на телегу. Ясно было, что он ни за что не хотел оказаться погребенным под горой зачумленных трупов. У волонтеров была дурная привычка сваливать на одну телегу мертвых и умирающих, особенно если они видели, что умирающие не дотянут до лазарета.
Умирающий ревел, как бык, которого режут, и сопротивлялся с завидной энергией. Ему удалось соскользнуть с телеги, хотя длинная окровавленная рубаха мешала двигаться. Он увернулся от alarbres, но оказался лицом к лицу с могильщиком в лохмотьях, с палашом в руке. Могильщик попытался палашом зацепить беглеца, но тот быстро выхватил оружие у него из рук, не обращая внимания на глубокую рану, открывшуюся на предплечье. С палашом в руке он стремглав побежал к площади. Санитары ругались, но вдогонку за ним не бросились, видимо, решив, что далеко он не уйдет.
Зачумленный и вправду сразу замедлил бег, ибо нога его увязли в белом песке, который надувало порывами неощутимого ветра. Поравнявшись с Мишелем, Шевиньи и Триполи, он едва держался на ногах, однако это не мешало ему угрожающе потрясать палашом.
Мишель вздрогнул, когда этот живой призрак оказался рядом с ним. Лицо исхудавшего и сгорбленного умирающего было все в крови и в гное, запавшие глаза лихорадочно блестели, и все же характерные асимметричные черты трудно было не узнать.