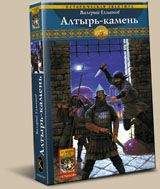– И где они теперь? – хмыкнул Александр Михайлович.
– У себя в избе я их хранил, да не устерег, – виновато опустил голову юноша. – Когда он прослышал, что я со всеми старейшинами разговоры веду о том, что не могут твои слуги, государь, обдирать нас так нещадно, то повелел своим людям дверь в моем домишке подпереть ночью и запалить с четырех концов. Сам я чудом уцелел, да и то наполовину. Вот в огне эти грамоты и сгорели.
Князь облегченно вздохнул. Константин заметил это, но ничего не сказал.
– Стало быть, все сгорели? – обратился он к юноше.
– Сгорели, – кивнул тот. – Но не все. Я в самый последний миг спохватился, три грамотки успел за пазуху спрятать, а сам грудью на землю лег. Думал, коли сам сгорю, так хоть они уцелеют. Только они опаленные сильно. Я их прямо из огня выхватил. Ты уж не побрезгуй, государь, – с этими словами он протянул царю изрядно помятые и наполовину сгоревшие бумаги.
Константин внимательно просмотрел их и сурово заметил князю:
– Теперь ты свои бумаги неси. А чтоб искалось получше, я тебе своих дружинников дам. – И вновь повернулся к юноше. – Славно написано. Разборчиво, – похвалил он. – Такими перстами царские указы писать. Чья рука?
– Моя, – мрачно отозвался тот.
– А почему старейшинам не помог жалобу написать? Слог там тоже знатный, но писано – как курица лапой.
– И ее я писал, – поправил юноша. – А за куриную лапу не гневайся, государь, – и он протянул Константину изуродованную правую руку с неизгладимыми следами страшных ожогов.
Больше всего пострадали указательный и средний пальцы. От них осталось всего по одной фаланге. Половина большого пальца тоже отсутствовала.
– Не привык я еще левой рукой писать, – скупо пояснил юноша, но глаза его при этом предательски наполнились слезами.
– А я тебя сразу и не признал, Скора, – кашлянул в кулак Константин. – Только сейчас, да и то лишь по родимому пятну на запястье. Уж больно оно приметное. Стало быть, вот почему ты три года в этих краях отсутствовал – в Рязанском университете обучался. Как же, как же, единственный из этих мест приехал ко мне в стольный град. Вижу я – неласково тебя родные края встретили, так что нечего тебе тут делать. Я тебя, пожалуй, с собой заберу.
– Не смогу я ныне помочь тебе, государь, – вымученно улыбнулся Скора. – Сам же говоришь, что писано так, будто курица лапой прошлась.
– Переписчики у меня и без тебя найдутся, – буркнул Константин. – Только помнится мне, тебя за голову светлую хвалили. Потому и в «Око государево» взяли. А голова-то у тебя только сверху опалена, внутри же все целым-целехонько. Словом, собирайся, только вначале сходи вместе с моими воями и бумаги у князя поищи, чтобы я сличить их мог.
– Стало быть, верно князь сказывал – верное слово сотни худородных дешевле брехни одного Рюриковича? – криво усмехнулся Скора.
– Не то ты говоришь, – строго сказал Константин. – Пред судьей все равны. Но слово – это одно, а вину доказать – иное. Тем более такую тяжкую. Ведомо ли тебе, что Александру Михайловичу грозит, ежели бумаги сыщутся? То-то. А чтобы князя на гиль [101] посылать – поувесистее доказательства надобны.
К вечеру бумаги сыскались. Прав был Скора, правы и старейшины. Константин уже хотел было огласить беспощадный приговор, но тут до него донесся тихий голос Святослава.
– Государь, – видя, как сильно разгневан отец, счел нужным вступиться за опального сборщика даней царевич, стоящий позади царского кресла. – Он все ж таки Рюрикович.
Константин хотел было разразиться гневной отповедью, на этот раз в адрес сына, но не при всем же честном народе это делать, поэтому сдержал себя и коротко распорядился:
– Этого в поруб до завтрашнего дня, а поутру я оглашу, какую казнь [102] для мздоимца придумал. А ты иди за мной, – буркнул он сыну.
Уже в покоях, которые городской воевода отвел для дорогого гостя, оставшись один на один, он сурово посмотрел на царевича и произнес:
– Ты опять за свое? Сколько раз можно тебе объяснять, что не дело это – на рождение да на заслуги предков смотреть. По уму о человеке судить надо. По уму и по делам его.
– И все же он Рюрикович, а не тать шатучий, к коему и прикоснуться страшно, – упрямо повторил Святослав.
– А Слан, которому ты самолично награду вручал и обнимал? – усмехнулся Константин. – Он ведь тоже татем был.
– Как?! – ахнул Святослав в неподдельном изумлении. – А ты ничего не спутал, царь-батюшка? – с надеждой в голосе переспросил он.
– Такое не спутаешь, – вздохнул Константин.
Год тысяча двести двадцать пятый от рождества Христова выдался относительно спокойным, но реформы, затеянные Константином, могли взорвать все в один момент. Вводить же их было необходимо не только в своих землях, где он и только он был полновластным хозяином, и не только во владениях князей-подручников.
По задумке Константина отныне все вопросы в городах и селениях должны были решать выборные органы самоуправления. Что-то вроде европейского муниципалитета, хотя и не с таким обилием прав. Кроме того, ему надлежало поставить несколько собственных судей в самые крупные города княжества и принять меры по всем тем безобразиям, которые «нарыли» два совсем молодых контролера по финансам, прошедшие школу у самого Зворыки.
Потому он и прибыл в Киев, дабы самолично присутствовать при оглашении этих самых реформ, чтобы Андрей Мстиславич при всем своем желании не смог ничего поделать.
Возмущаться киевский князь начал с самого начала, указывая, что теперь отпадет нужда и в нем самом. Константин не терял надежду договориться с ним по-хорошему и предложил обсудить все претензии, а также вызвался объяснить, почему все то, что он вводит, – просто необходимо.
Случилось так, что когда в просторном княжеском тереме на Горе [103] они приступили к этому обсуждению, в это же время на Подоле [104] монах Киевского монастыря во имя Святого Симеона, расположенного в Копыревом конце, признал в прошедшем мимо него мужике некоего Слана. К тому же, как назло, был отец Февроний из числа именно тех людей, кому этот Слан из сельца, лежащего близ монастыря, изрядно досадил своим упрямством и непокорством.