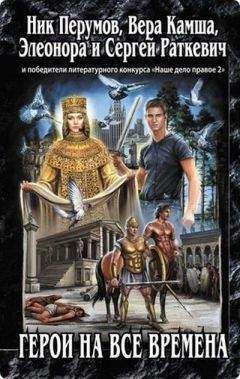на тройки, рассыпались по сторонам, примерно три десятка человек – главные силы – оставались с полковником. Смешно сказать, думал Фёдор, пробираясь вместе с Петей Ниткиным какими-то огородами, Две Мишени что, решил взять Юзовку вот так, нахрапом, с «ротой», состоящей, по сути, из одного слегка усиленного взвода?
Однако они проникали всё глубже, и народ только провожал их изумлённо-перепуганными взглядами.
И именно они, Фёдор Солонов с Петей Ниткиным, заметили торопливо перебегавших вооружённых людей в солдатских шинелях, но с красными лентами на таких же, как у самих кадет, форменных папахах из армейских складов.
Они пробирались, перебегали, солдаты были явно опытными, прошедшими японскую, но кадет они не заметили.
Кинжальный огонь в упор – и, оставив полдюжины тел, четверо уцелевших бросились наутёк, кинув даже винтовки. Один, раненый, тоже попытался бежать, но свалился, успев крикнуть «сдаюсь!».
Подоспевший Две Мишени задал лишь один короткий вопрос:
– Штаб?..
– В гимназии… – простонал пленный, пока Лев Бобровский умело и деловито накладывал жгут и бинтовал рану.
– В какой именно?
– В женской…
У Пети Ниткина в кармане, разумеется, оказался детальный план Юзовки, а где он им разжился – то никому не ведомо.
– Гимназия Ромм или Левицкой?
– А… пёс знает… мы не местные…
– Приметы знаешь?
– Там… вывеска… насосы… и дом кирпичный с башенкой…
Все взоры обратились на Петю, каковой невозмутимо извлёк из-за пазухи некий справочник, полистал его, после чего объявил:
– Гимназия Ромм. Угол Первой линии и Садового. Пошли.
Раненого красноармейца оставили сидеть на ступенях церквушки, убедившись, что рана тщательно забинтована.
– Сиди, думай, может, в себя придёшь, – сказал на прощание Две Мишени. – Мы не ваша братия, мы раненых не добиваем, а пленных не мучаем, что бы вам комиссары ни рассказывали.
Первая линия Юзовки застроена была двухэтажными более-менее приличными домами, снег давно скрыл осеннюю грязь, так что город смотрелся даже нарядно, несмотря на гарь из бесчисленных заводских труб. Кадеты маршировали бодро, держали строй, оружие в положении «на плечо». Здесь, в самом центре, было тихо, лавки закрыты, обывателей совсем не видно.
К гимназии Ромм, занимавшей второй этаж углового здания, подошли одновременно со всех четырёх сторон. Над башенкой – не соврал пленный! – развевался красный флаг.
У входа стояли часовые, но это оказались единственные красноармейцы после той рассеянной на окраине группы.
На марширующих кадет они уставились с искренним изумлением.
– Эй, кто такие? – один начал снимать с плеча винтовку.
В следующий миг на него уже смотрела дюжина стволов.
– Спокойнее, товарищ, – хладнокровно бросил Две Мишени. – Не дёргайся, не ори, и всё с тобой хорошо будет.
Обезоруженных часовых быстро и сноровисто затолкали в подвальную дверь, ворвались на лестницу, разом и на парадную, и на чёрную, что выходила во двор.
Наверху, в гимназических классах, гудели голоса, что-то командовал человек во френче, небольших круглых очках и с буйной шевелюрой. Верхнюю губу подчёркивали аккуратные усики.
В следующий миг рука его уже рванула кобуру, но Две Мишени успел быстрее. Полковник ударил стремительно, коротким боковым и ещё более коротким прямым в голову, так что круглые очки полетели, кувыркаясь, на пол.
– Связать!
Кадеты распахивали двери классов, наставляли «фёдоровки». Некоторые поднимали руки, но далеко не все. Вспыхнула стрельба, правда, столь же быстро и стихшая. Самые храбрые лежали, пронзённые пулями александровцев.
– Оформляй в плен, – хрипло скомандовал Две Мишени.
…Добровольцы заходили в Юзовку с трёх сторон. После пленения штаба Южной революционной армии сопротивление прекратилось, красные поспешно откатывались из города, потому что добровольцы, как оказалось, совершили обходной манёвр и без боя заняли Дебальцево.
С красными уходили и многие рабочие: комиссары старательно рассказывали, как «белоказаки» и «бывшие» сразу же начнут не только пороть ослушников, но вешать и расстреливать всех даже просто сочувствующих советской власти.
Многие верили.
Многие, но не все.
Колонны Добровольческой армии вступали в Юзовку, и это была настоящая армия. Обутая и одетая, хорошо вооружённая – склады Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Севастополя остались в их руках. От Юзовки и Горловки добровольцы наступали на север, где лежал Бахмут, и на северо-восток, к Луганску.
Антонов-Овсеенко сидел на стуле, лицом к окну. Допрашивали его не в каком-нибудь подвале, а в том же классе женской гимназии, где он попал в плен. Очки ему вернули, они каким-то чудом не разбились, и он сейчас постоянно протирал их извлечённым из кармана френча платочком. Пальцы его не дрожали и сам он оставался спокоен.
– Какими силами и средствами располагала ваша армия? – так же спокойно спрашивал Две Мишени.
Пленник пожал плечами.
– Меня царские сатрапы не запугали, а вы уж и подавно не запугаете. Ничего отвечать не стану. Трудовой народ не предам.
– Царские сатрапы, – ласково сказал Две Мишени, – были сущими добряками. Чтобы там кого-то высечь без указания сверху – да ни-ни! Разве что по физиономии могли заехать, да и то без особенной злости, так, для порядка. Не было в них настоящей ненависти, милейший Владимир Александрович. Потому-то вам и удавались все ваши эскапады.
Антонов-Овсеенко усмехнулся.
– Эскапады? Можно и так называть. А только жандармов с тюремщиками я в дураках оставлял не раз.
– И это верно, – согласился Аристов. – Оставляли. Один раз, когда, изменив присяге, дезертировали, побоявшись на японский фронт отправляться. Второй, когда из Варшавской тюрьмы бежали. Это перед японцами вы дрожали и трусили, а царских-то сатрапов и впрямь не боялись. А вот кабы были уверены, что вас пристрелят при попытке к бегству, небось призадумались бы.
– Может, и призадумался бы, но скорее всего нет. – Пленник держался гордо и с достоинством. – Потому что революция всё равно победит. А вас выкинут на свалку истории. Меня вы можете расстрелять, но я…
– Всё равно ничего не скажу? – перебил Две Мишени, и голос его внезапно утратил всякую мягкость. – Скажете, ещё как скажете. Некто Сиверс – ваш товарищ, не так ли? – утверждал совсем недавно… – Полковник взял со стола листок, начал читать: – «Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый, с оружием в руках восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война – война особая. В битвах народов сражаются люди-братья, одураченные господствующими классами; в гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны».
– Товарищ Сиверс любит красивую фразу, но командир он толковый, – пожал плечами Антонов-Овсеенко. – Его колонна сейчас в Сватово. Очень скоро она будет здесь, и тогда посмотрим, кто станет смеяться последним.
– Боюсь, Владимир Александрович,