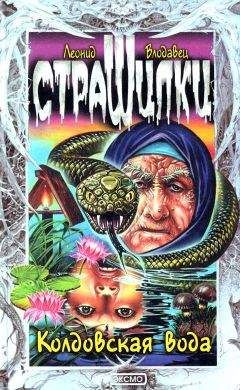Покончив с деревом Гершель отправился к костру чуть передохнуть и обогреться. Это не возбранялось. Нужно только сделать вид, что читаешь молитву, и тогда инок, сидящий с автоматом у костра, сам даст тебе место поближе к огню. «Горячие молитвы доходчивы» — так они говорят.
Инок, следивший за костром, неожиданно встал и пошел вдоль порубки, изредка покрикивая на ленивых. Поляков проводил его взглядом и вдруг услышал горячий шепот:
— Слышь, фраер, это ты что ль Герш?
Гершель обернулся: рядом сидел невзрачный человечек, с пронзительными глазами и длинными, чуть обезьяньими руками, далеко торчавшими из рукавов бушлата. Человечек сплюнул в костер и повторил вопрос:
— Ты, что ль, Герш Поляков? Ну?
— Я. А тебе что за дело? — Поляков сразу понял, что перед ним один из так называемых «блатных», проще говоря — уголовников. Блатной снова сплюнул и, глядя куда-то мимо, тихо произнес:
— Значит, интерес к тебе есть. — И после секундной паузы, — Родня за кордоном имеется?
— Где? А, за рубежом? Есть, как не быть — Гершель вздохнул. — А что толку? Им же не сообщишь, где ты и что. Письма писать нельзя.
— А сам, — человечек придвинулся ближе, — сам их повидать не жалаш? Ну, фраерок? Ща бы куда нить в Лондон, или в Америку? А?
Поляков представил себя нынешнего, осунувшегося, почерневшего, страшного в мюзик-холле или ресторане, на Бродвее или на Пляс Пищаль и хрипло захохотал.
— Ты че, припадочный? — человечек чуть отодвинулся, но смотрел все так же, внимательно, изучающе.
— Нет, не припадочный, — отсмеявшись, сказал Гершель, — просто смешно стало. Хорошо бы туда, конечно, да жаль, не отпустят. Разве очень попросить…
— Ты сюда слушай, — тихо зашептал человечек, снова придвигаясь ближе, — а сколько, к примеру, дашь, если мы тебя туда предоставим?
Теперь Поляков посмотрел на человечка с интересом. О побегах он слышал. О них иногда ночами тихо перешептывались в бараках. Неужели этот кошмар может и правда кончится чем-нибудь другим, кроме смерти от истощения и безымянной могилки с номером вместо эпитафии? Гершель сразу начал быстро прикидывать, на что он может рассчитывать, если доберется до Лондона и подтвердит свое право на ту часть акций банкирского дома «Гирш и сыновья», которая является его неотчуждаемой частью как наследника одного из соучредителей. Получалось немало, но Гершель не был бы Гершелем, если бы не стал торговаться.
— Двести тысяч фунтов наскребу, — качая головой в притворной грусти тихо выдохнул он, — остальное конфисковали.
— Да ты чего, фраер? За кого ж ты нас, фуцын бараный, канаешь? Да меньше, чем за лимон, с тобой и возится никто не будет! Полтора лимона — по рукам!
— Полтора миллиона? — Поляков снова был в своей среде, — Полтора миллиона? Что б у тебя было столько болячек, сколько у меня миллионов! Четыреста тысяч, и я должен буду остаток жизни подметать улицы!
— Какие такие четыреста кусков?! Ты че, фраер, всю жизнь здесь гнить собрался?! Верно говорю, самое малое — лимон!
— Посмотрите на него, люди — сказал Поляков сиплым шепотом, — он думает, должно быть, что у меня алмазные шахты! Больше четырехсот пятидесяти никак не смогу!
Он встал и отправился на рубку. Торговля торговлей, а работать надо — вон инок уже смотрит в их сторону.
Торговля продолжилась во время обеденного перерыва. Усевшись в сторонке, они яростно препирались, и наконец сошлись на восьмистах тысячах, пятьсот из которых Гершель Самуилович отдает сразу по прибытии в Лондон, а остальные триста — в течение полугода.
— Теперь слушь суда, Самуилыч, — новый знакомец по имени Мойша-Резник придвинулся к самому уху Полякова и быстро горячо продышал в ухо, — Сегодня ложисся не у себя в углу, а рядом с нами. Не спи. Как колокол ночной прозвонит — подрываемся. Усек?
— Усек.
— Ну тогда — до вечера, Самуилович.
…Он ждал вечера так, как в детстве ждал прихода Пейсах. Но вот, наконец, мерно и гулко ударил колокол и Мойша-Резник толкнул его в бок. Еще до отбоя они проверяли, что бы все было справно, что б ничего не звякало, привлекая внимание охраны. Втроем: он, Мойша и Беня-Зверь, они выбрались из барака и стали красться к стене. Прожектора с колокольни мерно описывали круги, заливая двор мертвенно-белым светом. Вот и стена, метров шесть частокола из необхватных бревен. Беня чем-то завозился в темноте и тут же шепнул:
— Скорее, три ребра мне сломать, скорее.
Гершель не понял, чего хочет Зверь, но Мойша толкнул его вперед и он очутился у входа в лаз. Ужом протиснулся сквозь дыру и пополз, раздирая бушлат на локтях. Сзади пыхтел Резник, иногда сильно толкая его в пятки. Вот нора закончилась и Гершель смог вдохнуть морозный ночной воздух. Следом за ним из подкопа выполз Резник, и последним — Беня-Зверь, тащивший за собой длинный узкий мешок и какую-то ветку. Резник придвинулся к Полякову и прошелестел:
— Как толкну — бежим, сколько мочи есть. Весь бежим. А как по плечу хлопну — падай и лежи как мертвяк. Усек?
Гершель кивнул. Послышался скрип снега: вдоль стены шел часовой. Беглецы закопались в сугроб у стены и затаили дыхание. Скрип слышался все ближе, ближе и наконец загрохотал в ушах Полякова барабанным боем. Сколько продолжался этот кошмар определить он не мог. Но вот скрип стал удаляться — часовой уходил за угол. Гершель перевел дух, и в этот момент Резник с силой толкнул его в спину. Гершель вылетел из сугроба как ядро из пушки и из всех сил рванулся к лесу. Сбоку и чуть сзади сопели на бегу Мойша и Беня-Зверь. Спасительная кромка леса все ближе. «Успеть! Успеть!» — шумела кровь в ушах Полякова. Вот и первые деревья, вот и спасительные кусты. Гершель бежал, уже ничего не видя, но все равно бежал. Впереди была жизнь…
— Стой! Стой, стрелять буду! — рявкнул сзади чей-то голос. И одновременно с ним раздался громкий, заливистый собачий лай.
— Палились, — простонал Мойша, — палились.
Он вдруг с силой ударил себя кулаком в ладонь и грозно зыкнув на оторопевшего Полякова, хрипло крикнул:
— Че зенки вылупил? Бежи, урод, бежи, может оторвемся!
Они бежали, петляя как зайцы. Гершель сжимался, почти физически ощущая, как в спину ему целятся иноки, как по следу за ним мчится, вывалив наружу мокрый красный язык громадный пес-волкодав, натасканный на людей. Внезапно сзади поднялась какая-то возня, дико вскрикнул человек, а потом истошно взвыла смертельно раненная собака. Он не обернулся. Надо еще поднапрячься. Тогда он уйдет. А потом будет та самая жизнь, которая, казалось, только снилась. Он уже чувствовал аромат сигары и вкус выдержанного коньяка. Он уже видел на яву стол, застеленный хрустящей скатертью, сервированный блистающим серебром и дымящуюся утку по-руански, он уже осязал податливое, нежное тело молодой прелестной женщины, снова как встарь, ставшей его собственностью…