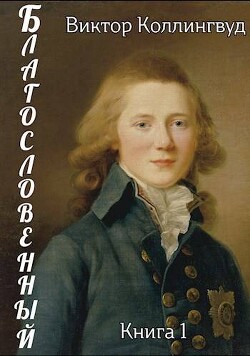ей, но знал, что так говорить ей нельзя. Екатерина, несмотря на кажущуюся мягкость, терпеть не могла критику и не любила признавать свои ошибки, оборачивая всё так, будто бы неудачный ход дела был, в самом деле, заранее её известен и вполне желателен. Видимо, за этой скверной манерой скрывалась своего рода психологическая защита. Легко признавать ошибки тому, кто знает о собственном раздолбайстве, и признаёт его — ну, ошибся, и ладно, ведь я же раздолбай! А человеку ответственному, да еще находящемуся на таком посту, где решения твои влияют на жизнь и благополучие десятков миллионов людей, от рефлексии недалеко и свихнуться!
— Вот не уверен я в этом, бабушка. Должно, папенька все бриллианты на ордена расковыряет, а из золота, чаю, отольёт статую Фридриха Великого!
Лицо и руки Екатерины вдруг пошли красными пятнами — для неё это был признак сильнейшего душевного волнения.
— Дай бог, если дурачество сие будет самым важным его нововведением! Тут можно ожидать и чего похуже! — мрачно процедила она, и, достав изящную табакерку, начала яростно засовывать в ноздри табак.
— На бога надейся, а сам не плошай, бабушка. Вроде бы так в народе говорят? — со значением ответил ей я, глядя на корону.
— Выйдите все! — вдруг громко сказала Екатерина притихшим фрейлинам. — Все вон!
Дамы, шурша платьями, спешно покинули нас. Когда императрица отдает приказания таким тоном, надобно слушаться её немедленно и беспрекословно.
Екатерина некоторое время молчала. Затылком я почти физически чувствовал её взгляд.
— Ты стал… совсем взрослым, Саша — наконец услышал я. — Все удивляются тебе, и я, верно, более всех поражена такою переменою. Ведь ты сейчас говоришь о том, чтобы…
— Да.
Я обернулся. Сейчас? Да, сейчас!
— Ты ведь знаешь, он не может править. Не-мо-жет. И с этим надобно что-то сделать!
Взглядом Екатерины в этот момент, наверное, можно было резать гранит.
— Я знаю, Саша. Но тебе это откуда ведомо? Кто говорил с тобою?
— Никто. Что там ещё говорить? Я и сам всё знаю. Было мне, бабушка, такое виде́ние — станет мой папенька императором всероссийским, только вот не на́долго. Буквально через несколько лет постигнет его судьба своего родителя, практически один-в-один!
Екатерина в отчаянии несколько секунд глядела мне в лицо. Затем вдруг лицо её вновь пошло красными пятнами; ощерившись, она резко и зло всплеснула руками.
— Ну, а что удивляться-то? Ну, дурраак! Весь в папашу, дурак-дураком! Ну конечно же, его убьют!
Она ещё несколько секунд глядела на меня тем же взглядом; кажется, ей стало стыдно за эту вспышку.
Затем лицо её постепенно приняло нормальный свой цвет, а затем и просияло улыбкой:
— Ничего. Ничего, Сашенька, всё образуется. Пойдём теперь, меня ждут господа послы…
— Обожди чуток, бабушка. Я вот что хотел тебя спросить — что ты думаешь про этих «аньяльских конфедератов»?
— Ой, да что тут думать. Мятежники они супротив своего монарха. Будь такое в моей армии, да еще и в войну — я бы с такими не лимонничала! Да ещё и нерешительны крайне — выдвинули требования, и сидят теперь на месте, ждут чего-то. Тут уж, ежели начал бунт — так дерись, или побьют тебя самого!
«Вынул нож — бей» — вспомнилось мне. Прямо мудрость на все времена!
Впрочем, ответил я совсем другое.
— То, что они бунтовщики — это, конечно же, так. Но, правда и то, что король вольности их порушил, так что мятежники эти, вроде бы, и в своем праве!
— Тоже верно — совершенно спокойно ответила императрица. — Всяк народ живёт, как привык. Вон, у англичан — парламент, и притом дела у них неплохи; французы вон, тоже, ассамблею нотаблей сей год созывали, а в будущем, говорят, Генеральные штаты устроят; и у шведов испокон веку ригсдаг был, пока нынешний король не свёл всё к самовластью…Да, можно сказать, что бунтуют шведы по делу, хоть и нерешительно очень!
— Там еще финны есть, что хотят отделиться!
— Ну, это уже не дело.
— Так-то оно так, но ведь финны — не шведы. Другой совсем народ, живёт в бедности. Может, нам помочь им?
— Да зачем это? Лучше уж отвоевать как-нибудь эту область, да и сделать ея своею!
— Сейчас это вряд ли выйдет, войск-то мало. А помочь финнам — есть резон.
— Какой же? — вдруг заинтересовалась Екатерина, и, присев за столик, подпёрла рукою голову, приготовясь слушать меня.
— Страна у них будет маленькая и слабая. Без нашей поддержки шведы их съедят, оттого они нам послушны будут. В то же время будет нам прикрытие для Петербурга с севера. А самое главное — им же король будет нужен!
— И на кого ты намекаешь? На Костю? Нет, его я чухонцам не отдам!
— Да нет, бабушка. Не на Костю. Далеко не на Костю!
— Неужели на себя? Да брось, зачем тебе это?
— И не на себя. Вот смотри — отец мой, Павел Петрович, живёт и здравствует, помирать не собирается. А если вдруг, по воле божией, умрёт — все подумают такое, что не приведи господи! Поступить с ним, как с Иваном Антоновичем, тоже невмочно. Я на такое не соглашусь, да и всему дворянству сие не понравится. А вот, ежели, например, он будет править в небольшом европейском государстве, то это ведь и ему на пользу пойдёт, и всем нам тоже.
Взгляд Екатерины стал задумчиво-отсутствующим, будто она смотрела теперь сквозь меня куда-то в пустоту.
— Ну, может, ты и прав, Сашенька. Может, и прав. Я ведь, честно тебе скажу, давно уже решила, — трона Российского он не получит. Не по Стеньке та шапка. А сделать его финским корольком… Не знаю, хорошо ли сие.
— И в чем же твои сомнения, бабушка? — как можно мягче спросил я.
— Очень уж близко тут до Петербурга. У него же ума-то хватит