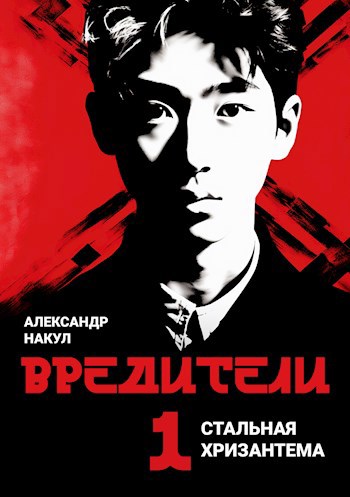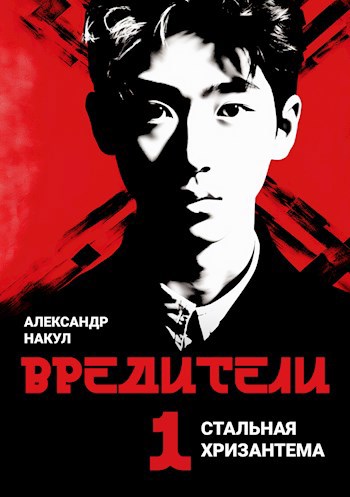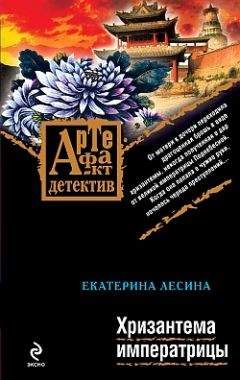любовного соперничества: непременно нужно, чтобы двое прекрасных юношей претендовали на внимание ещё более прекрасной дочки мельника, и потом один соперник заколол другого ножом, и ему за это отрубили голову, а его сестра умерла от несчастной любви к этому убитому, а сама девушка после такого ушла в монастырь, у неё открылись стигматы и она тоже потом умерла. Вот почему творчество Д’Аннунцио так непровдоподобно при чтении и так поражает, поставленное на сцене.
― Теперь ясно, отчего в Токио его так плохо знают. Для нашего чопорного города он слишком кансайский. Весь тираж расходится, не покидая Осаку.
― Соглашусь, наши новейшие писатели слишком серьёзны и ничуть не итальянцев не похожи. Есть конечно какие-то проблески у Танидзаки-сенсея, но и у него женские персонажи больше грозят скандалами, чем их устраивают.
― В этой области я тебе доверяю. Но мне у Танидзаки очень “Наоми” понравилась. Так здорово читать, как эта школьница взрослого инженера унижала!
― О, д’Аннунцио не позволил бы какой-то школьнице себя унижать! Уже в иезуитской школе он питался, чем кормили, а все деньги тратил на духи, перчатки и шарфы и вообще был может не самым умным, но хотя бы самым модным. Он уже тогда понимал, что современная академическая наука слишком сложна, чтобы по-настоящему впечатлять. А красота и изысканность всегда знамениты. Я, признаться, до одного недавнего случая не знал, что такое возможно и у нас, со всеми нашими школьными правилами.
― Кто она?
― Что за она?
― Ну эта стильная девушка, которая показала тебе, что можно быть прекрасной даже в нашей теперешней школе.
― Это юноша.
― Кхм,― произнесла Соноко и ощутимо покраснела.
Однако захваченный рассказом о жизни и судьбе великого итальянца Кимитакэ не обратил на это внимания.
― Из всех предметов юный Габриэле предпочитал античную историю, откуда черпал идеи, и иностранные языки, которые пригодились для перевода его сочинений и распространения его славы по всей Европе. Уже тогда он понимал “наука неспособна вновь заселить опустевшее небо, вернуть счастье душам, которых она лишила наивного мира. Мы больше не хотим правды. Дайте нам мечту. Мы обретем отдых только под сенью Непознанного…”. Однажды друг отца попросил пятнадцатилетнего Габриэле отвести дочку в Этрусский музей, чтобы прониклась искусствам. Какое-то время они там блуждали, пока наконец-то не нашли кое-то интересное: колоссальную бронзовую Химеру. Габриэле, разумеется, тут же засунул руку ей в пасть. И застрял. Дёрнул раз, дёрнул два. И наконец вырвал руку из пасти мистического чудовища ― пальцы на месте, а ладонь в крови. Девушка, само собой, в восхищении пополам с ужасом. Ну он решил, что самое время. Полез целоваться и так перевозбудился, что укусил её в губы…
― А что она?
― А она ему, разумеется, хорошую затрещину. Он потом перед ней долго извинялся: просто подумал, что сердце так заколотилось не от боли, а от влюблённости.
― Ну, парни вообще обычно не различают любопытство, влюблённость и любовь.
― Уже в детстве он знал, как действовать на людей. Если учитель опаздывал ― снимал ремень и начинал стегать парту. Его за это отправляли в карцер на десять дней, к великой зависти более послушных одноклассников. Там никто не мешал читать и писать. В шестнадцать лет Габриэле издал первый сборник стихов ― и раздарил его одноклассникам и преподавателям. На этот раз скандал был побольше, его даже на педагогический совет вызывали. Пытались объяснить, что “варварская похоть поцелуев” “в преступное полнолуние майских календ” растворившихся в природе свинопасов и пастушек ― это даже не современно, что над ним смеяться будут. Он послушал, а когда они закончили, отправился отмечать свою первую серьёзную публикацию ― разумеется, в бордель. Такой вот он был скандальной личностью.
― Может быть, это и скандально. Но очень по-итальянски!
― Доучившись, он напечатал во Флоренции ещё один сборник и распустил слух, что автор, начинающий поэт большого таланта, на следующий день после выхода книжки из печати упал с лошади и разбился насмерть. Он не стал даже родителей предупреждать, что это розыгрыш ― а может быть, просто забыл. Но что бы он ни задумывал ― поверили ему все. Экскурсоводы, которых во Флоренции примерно половина города, даже стали показывать туристам ту самую лошадь. Разумеется, книжку захотели прочитать все. Габриэле дождался, когда тираж разойдётся ― и ожил!
― Дай угадаю: дальше он продолжал в том же духе.
― Да, разумеется. Перебрался в Рим и жил там как надо. С утра писал, а после полудня фланировал по древним улицам в пёстром галстуке и тонким перчатках, с ньюфаундлендом и лилией в левой руке. Это нашим писателям для творчества достаточно горной хижины, чашечки чая, двух рисовых колобков, стопки бумаги и связки химических карандашей. Результат такого творчества будет тонкий, но пресный. А в квартире д'Аннунцио непременно найдутся арфа в замшевом чехле, клыки дикого кабана, позолоченная статуэтка Антиноя, алтарные дверцы, два японских фонарика, шкура белого оленя, двадцать два ковра, коллекция старинного оружия, расшитая бисером ширма и это мы ещё в другие комнаты не заглядывали. Ну, и само собой, женщины. Актрисы, певицы, интеллектуалки в духовном поиске, скучающие графини и княгини из высшего общества… Вот, послушай: “в женском идеале он чувствовал, что его влечет какая-нибудь куртизанка шестнадцатого века, носящая на лице какое-то магическое покрывало, зачарованную, прозрачную маску, как бы темное ночное обаяние, божественный ужас Ночи”. А однажды и вовсе заявил, что “женщина — единственная наука, достойная изучения”.
― То есть, говоря простонародным языком, поразвлечься любил, но и по морде получить боялся.
― Так и получал. Несколько раз дрался на дуэли и один раз после ранения ― ты можешь себе такое представить? ― почти полностью облысел.
― Судя по этой подробности, дуэль была на химическом оружии.
―