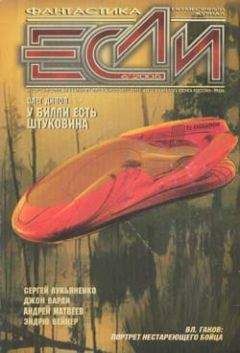— Мы ведь и так, доктор…
— Нет, нет. Совсем. Чтобы бежать. Бросить все. Я прокляну это… Лабораторию. Славу. Не надо ничего… Не нужно больше. Материя… Энергия… Ужасные волны… Пусть будут прокляты! Душа есть, Ариадна, есть!.. Вот, у вас — у вас… Я ее вижу… Большая. Неизвестная. И у себя… нашел. У себя! Сегодня… Весь мир берет у меня волны… Материю. А кому — она? Хотите, Ариадна? Возьмете?
— Доктор…
— Не полюбите? Нет? И не смейте! Я неискренен. Да! Не все говорю! Да, да! Скрываю. Честолюбие… Тщеславие… Прогнил в них… Насквозь. И души, может быть, нет. Ну, отлично! Ясно. Прощайте!
— Доктор… — протянула руку Ариадна, — вы хороший, славный… Когда вы успокоитесь, тогда…
— Не полюбите?
— Доктор… Не надо этого…
— Не надо?.. Да, да… Да, пора. Ведь, теперь четверть… Извините — задержал. Прощайте, Frau Штейн!.. Очень рад был… До свиданья!
Наступал вечер. Сгущались сумерки. Ариадна сидела в мягком кресле у окна, при свете электрического городского солнца дочитывала недавно вышедшую в свет книгу Штральгаузена. Уже около месяца, как он поднес ей этот экземпляр, снабдив его длинным витиеватым автографом.
Но до сегодняшнего дня она успела прочитать только предисловие президента Академии наук, введение самого автора и несколько первых глав. Называлась книга: «Колебания от нуля до бесконечности» и, судя по первым главам, была как будто сухой, специальной. Но со второй части начинались любопытные мысли. В главе «Новые виды энергии» Штральгаузен развивал предположения о том, что человеческий организм в скрытом виде воспринимает все колебания эфира в обе стороны от светового спектра. Если сотни биллионов колебаний нами ощущаются, то почему не ощущаются десятки биллионов? Биллионы? Миллионы? Осязание, быть может, и есть то ощущение, которое соответствует одной из групп этих волн? Внутренние органы тела, быть может, тоже специфически реагируют на эти низшие эфирные волны, точно так же, как глаз реагирует на световую группу лучей? А если так, то нельзя разве предположить, что и все наши аффекты, и все настроения, и ощущения здоровья и ощущения слабости — результат воздействия невидимых физических раздражителей? Этих неизвестных лучей ниже световых и выше световых — до бесконечности.
Аппарат, над созданием которого, судя по заявлению в книге, работает теперь автор, должен дать возможность получить все эти колебания в постепенной градации. Нет сомнения, утверждает Штральгаузен, что после опытов с воздействием подобного аппарата на живые организмы можно будет добиться грандиозных открытий. Определить, какие колебания приводят мертвую клетку к жизни, какие вызывают стремление к питанию, к размножению. И, быть может, будет найдена та группа, подобно колебаниям света, которая производит иннервацию, возбуждает нервную ткань, разрушает ее, дает в конце концов то, что мы называем мыслью?..
— Аппаратом вызывать мысль!.. — задумалась Ариадна, опустив книгу на колени. — Аппаратом оживлять мертвую клетку… Возбуждать и разрушать нервную ткань… Как смешно было читать это хотя бы десять лет назад, до открытия Штральгаузеном искусственного уничтожения материи!
А между тем… Странно, что могло его сегодня так взволновать? Она, конечно, давно замечала… Старалась делать вид, что не видит…
— Прости, дорогая, что опоздал, но это проклятое официальное положение…
Ариадна обернулась. Голос Отто! Разве пришел?
— Отто!..
В ответ ничего. Ариадна с тревогой встала, прошла в переднюю, заглянула в кабинет, в спальню.
— Мама, ты слышала?
Она стояла возле кухни, дверь которой выходила в конец передней. У электрической плиты что-то месила и лепила Софья Ивановна.
— Что, Адик?
Софья Ивановна низко нагнулась, с интересом разглядывая тесто.
— Ты слышала голос мужа?
— Да. Он в гостиной?
— Нет его! А что ты слышала?
— Не разобрала. Как будто извинялся, что поздно… А что?
— Ничего… А где твой аппарат?
— Владимира Ивановича? Тут… На полке… В чем дело? Разве Оттомар не вернулся?
— Нет…
Софья Ивановна удивленно посмотрела на дочь, повернулась, усиленно стала искать что-то на столе.
— Не понимаю в таком случае, Адик. Вот, может быть, у окна… Пролетал? В окно крикнул?..
— Ты думаешь? Может быть…
Успокоенная Ариадна вернулась в гостиную. Сумерки кончились, но она не зажигала пока электричества. В открытое окно, выходившее на улицу, видны соседние площадки и крыши домов, высится вдали обвитый электрическими лампочками купол Рабочего дворца, горят вертящимися фонтанами фейерверка верхушки бывших фабричных труб. И наверху воздух — в бесшумной огненной буре. Распадаются бледные луны, падают разноцветные звезды, взад и вперед мчатся молнии, ударяя среди визга и хохота в аппараты, украшенные световыми гирляндами.
Шум и говор повсюду — в небе, на улицах, на крышах с площадками. И среди хаоса электричества и гула человеческих жизней — сверху и снизу неотвязная музыка, скачущий мотив модного танца «Dog-Love».
— Ну, иди ко мне… — произнес сзади Ариадны обиженный голос баронессы Остерроде. — Я прощаю…
— Сознаешь, что глупо? — рассмеялся Штейн. — Ну, то-то же!..
Ариадна обернулась. Со страхом оглядывала пустую комнату.
— Если ты будешь так со мной разговаривать, я опять замолчу! — снова послышалось громко рядом. — Сядь сюда… Поцелуй руку!
— Только руку?
— Пока. Значит, домой не заезжал?
— Нет.
— А к Frau Гомперц?
— Тоже.
— Клянешься?
— Какая смешная! Конечно, клянусь.
— В таком случае, можешь сюда… И сюда. Погоди, какой нетерп…
Слова оборвались. В гостиной, разрезанной на яркие части ближайшим солнцем, трепещут в прорывах огни фейерверка. Тень какого-то аппарата прочертила на полу черный угол, исчезла. Наверху звуки «Dog-Love» сменились веселым маршем.
— Мама!
Ариадна выбежала, столкнулась в передней с Софьей Ивановной. Вслед за матерью она подошла к двери гостиной, остановилась, смотрела внутрь осветившейся комнаты, следила за тем, как Софья Ивановна внимательно осматривала стены.
— Оставь, Отто… Довольно!..
— Еще… Любимая… Родная…
— Ты с ума сошел!.. Мы сейчас будем ужинать…
— Не хочу… Не хочу… Не хочу…
Софья Ивановна быстро повернулась к столу. Приложила ухо. Подняла круглую зеленую пластинку с неглубоким выпуклым дном.
— Нашла!
Она с суровым лицом подошла к дочери, вырвала пальцами тонкую мембрану, смяла в комок, брезгливо бросила на пол.
— Проклятые изобретения!..
А Ариадна стояла в дверях — застывшая.
— Это он! — не отрывала она взгляда от страшного комочка на полу. — Это он… Ужас… Ужас…
— Кто он? Скажи?..
— Штральгаузен!
Ариадна опустила голову на плечо матери. Долго вздрагивала. С тех пор, как уехал Владимир, она плакала в первый раз.
На следующий день Ариадна с матерью переехала на Engelsstrasse в огромный новый городской дом, где сдавались по дешевой цене отдельные меблированные комнаты.
После смерти мужа Софья Ивановна получала ежемесячную пенсию, на которую, хотя и скромно, но можно было жить вдвоем. Кроме того, покойный Ганс Мюллер завещал жене свой небольшой пятиэтажный железобетонный дом с садом на одной из окраинных улиц Дрездена…
Они обе твердо решили переехать после ликвидации имущества в Петербург. Уже ни что больше не связывало с жизнью в Берлине. И Корельскому, принявшему в судьбе Софьи Ивановны и Ариадны искреннее теплое участие, не пришлось долго их уговаривать.
Вообще, Корельский теперь был неразлучен с ними. Помог переехать, устроиться, брал на себя все неприятные хлопоты, организовал дело спешной продажи дома, а по вечерам ежедневно проводил время с дамами, приходя к ним или приглашая куда-нибудь в загородные сады.
— Числа девятого или десятого можете переезжать в Петербург, — заявил он в один из ближайших дней. — Только что вернулся из Дрездена, наладил все. На восьмое число условился с покупателями, что вы, Софья Ивановна, лично приедете.
— Восьмого? Отлично. А как идут поезда?
— К чему поезда! Мы полетим, Софья Ивановна. Это быстрее и проще.
— Ну, нет. Я поеду. Ведь до Дрездена верст триста лететь, не меньше. И потом, дорого стоит. Мы не пролетарии, миленький!
— Мы с мамой вам так благодарны за все, Глеб Николаевич… — добавила Ариадна, видя, что Софья Ивановна, не поблагодарив, сразу перешла к делу.
— Благодарны?.. — удивленно посмотрела на Ариадну старушка. — А как же иначе? Ах, да. Вы, профессор, не обижайтесь, дорогой, что я иногда так… Без формальностей. Ведь вы теперь у нас совсем свой!
— Конечно…
Корельский улыбнулся, взял руку Софьи Ивановны, поцеловал.
— Хороший вы!