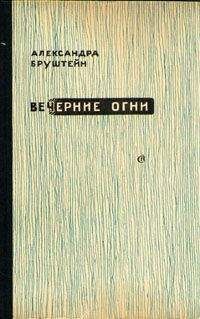сказал:
— Меня зовут Вагин, Игнат Вагин. Ко мне можно обращаться по имени или по фамилии. Понял?
Осокин отпустил его сплошь татуированную конечность, но Левицкий не стал рыпаться. Наверное, потому что в последнем слове назидания отчетливо скрежетнула жесть.
— Не трогай Вику! — ржаво взвизгнула девица за стойкой, трясясь, как панночка.
Марлен холодно глянул на нее, и защитница пошла пятнами. Хорошо, хоть не зелеными, а то напомнила бы Геллу.
Левицкий же стартанул с места, будто побивая рекорд. «Офисный планктон» растерянно переглядывался, и лишь украдкой Осокин принимал сигналы одобрения. Ему подмигнул бородатый парниша, кажется, тутошний фотограф, и улыбнулась бледная девушка, одетая на редкость скромно. В этой раззолоченной клетке с попугаями она выглядела неприметным воробушком, трудяжкой среди манерных бездельников.
— Что стоим? — разнесся мощный начальственный глас. — Работы нет?
Все мигом попадали на кресла и уткнулись в дисплеи, а Марлен завладел вниманием жирноватого мужчины в годах, удивительно похожего на Спрутса из «Незнайки на Луне».
— У тебя вопрос, Игнат? — нахмурился главред.
— Тема, Владимир Кириллович, — хладнокровно ответил Осокин.
— Слушаю.
— Сейчас среди читателей мода на «попаданцев»… Я списался с одним из авторов, он как раз сегодня будет в Москве. Можно порасспросить его.
— Нужно, — ворчливо поправил меня Кириллыч. — А то у нас под рубрикой «Культура» сплошное бескультурье… Что за автор?
— Большаков. Валерий, кажется.
Главред наморщил лоб, и кивнул, качая брылями.
— Помню, помню… В Топ-10 не попадал, но… Займись!
Марлену оставалось энергично кивнуть, и мигом собраться. Минуты не прошло, а он уже вдыхал свежий воздух, не зараженный креативом.
Глава 2.
Вторник, 11 апреля. Утро
Приозерный, улица Горького
«Селезнев П.С.» оказался крепким мужиком в годах, и смотрел на меня с ироничным прищуром, как бы снисходя до моей срамной доли — фотать для «брехунка». Осаживая рефлексии, я потискал ему руку, он кивнул, докуривая папиросину «Север», и встал со вкопанной скамейки. Дескать, давай, корреспондент, играйся в фотосессию! Мне, вон, по такому случаю, и спецовку новенькую выдали…
— Становиться куда? — лениво вытолкнул Селезнев, щелчком отправляя окурок в урну.
— Обойдемся, Петр Семенович, — спокойно ответил я, следя за траекторией полета «бычка», — позировать мне не надо. Сейчас же, вроде, вечерняя выпечка?
— Ну… да, — насторожился водитель.
— Так вы грузите хлеб, а на меня не обращайте внимания!
Селезнев недоуменно пожал плечами, и натянул черный берет — не отличишь от Папанова в роли Лёлика.
А я расчехлил драгоценный «Киев-10». Камера стоила двести девяносто рэ, чуть ли не три моих зарплаты, и уж как она досталась редакции «Флажка», как ласково именовали «Знамя труда», не ясно.
Снимать я, в общем-то, умел. Хотя и был обделен тем тонким чутьем, что отличало истинных фотохудожников, но иногда получалось очень даже неплохо. За это надо сказать спасибо нашему соседу дяде Виле — научил мелкого меня обращаться с «Зенитом-6».
«Не кривись, — брюзжал он, — все эти ваши электронные мыльницы — полное дерьмо, лишь бы фотки-однодневки щелкать. «Джипеги»… «пэдээфы»… Да сотрутся они за годы, распадутся на пиксели, а вот нормальные, настоящие фотографии переживут века! Разве что пожелтеют чуток…»
На работе я «щелкал» японским «Никоном», а для души доставал «Зенит». В нем скрывалось нечто изначальное, родственное виниловым дискам. Вот, вроде бы, цифровая запись качественней, но, когда раскручивается «винил», а игла касается звуковой дорожки… Лично меня в этот момент потрясает подлинность грамзаписи — она гораздо человечней бездушных компьютерных программ. Кажется, что исполнители только что напели вживую, для меня одного.
Как-то раз взял с собой великую поклонницу «цифры» — завел ее в фотолабораторию, затеял рутинную магию с проявителем, фиксажем и прочим колдовством. Девчонка пищала от восторга, стоило изображению протаять на фотобумаге — фигуры медленно проступали из ничего, обретая «и плоть, и страсть»…
А иного в шестьдесят седьмом и нету!
Селезнев, как я и ожидал, преобразился, занятый привычной работой. Он ловко загружал буханками лотки, да относил их к «газону» с будкой, косо отмеченной надписью «ХЛЕБ».
Там я его и подловил — поймал в движении. Петр Семенович как раз примеривался уложить лоток, а тут я. Оживленный, водила расплылся в улыбке — так его пленка и запечатлела.
Заметку я настрочил вечером, а с утра отнес в редакцию, лично в руки Наташке, довольно миловидной машинистке, что печатала со скоростью пулемета.
«Знамя труда» устроилось на втором этаже новостройки, сложенной из силикатного кирпича — его тут все называли «белым». А ниже священнодействовали печатники. Два в одном.
Темноватый коридор тянулся от лестничной площадки до бухгалтерии, а по сторонам хлопали двери в кабинетики и кабинеты. Самый просторный принадлежал главному редактору, Марлену же достался тесный отнорок — бочком мимо шкафа к столу, который не влезал поперек. Зато стул рядом со щелкающей батареей — тепло… А свет из окна падает слева, как положено.
Сядешь — и любуешься подлинником, что висит на стене. Пейзаж кисти местного живописца. "Вид на озеро в летний день".
— Осокин! — Зиночка бегло оглядела мою суверенную территорию. — На планерку!
— Есть! — отозвался я с деланной бодростью.
«Только сел… Ладно, пересядешь!»
Кабинет главреда напоминал скучный музей. Вдоль стены — витрины с почетными грамотами, вымпелами и сувенирами, даже кубки в честь спортивных побед затесались. А посередине — типовой длинный стол для заседаний. Перпендикуляром к нему примыкал громоздкий агрегат с полированной столешницей. За нею гордо восседал Иван Трофимыч — лысина блестела ярче полировки — и кивками привечал личный состав.
Завидев меня, он всплеснул розовыми ладонями:
— Ну, Марлен, вы меня удивили!
— Надеюсь, в хорошем смысле? — отодвинув стул, я устроился, выкладывая блокнот и отточенный карандаш.
— Вполне! — заколыхался главред в беззвучном смехе. — Очень, знаете, душевно получилось с этим передовиком… Как бишь его… Селезневым. И заголовок… такой… с юмором. «Везёт людям»!
Ответсек Ергина, напускавшая на себя строгость, вскинула выщипанные бровки.
— Селезнев — водитель хлебовозки, — пояснил я.
Зиночка зависла, хлопая накрашенными ресницами, но вот до нее дошла тень смысла — протаяла улыбка, и словно искорки завились в глазах.
Старейший член редколлегии, товарищ Быков, отвечавший за идеологию, повел пышными, прокуренными усами.
— А мне больше понравился абзац о фронтовом прошлом этого передовика, — сказал он весомо. — Человек прошел всю войну, что само по себе — достойная характеристика! Фотография будет?