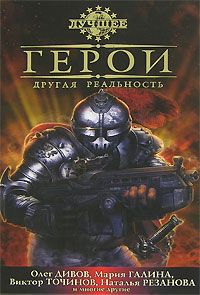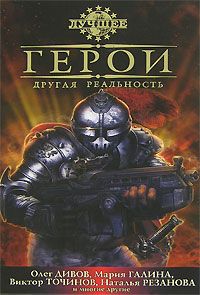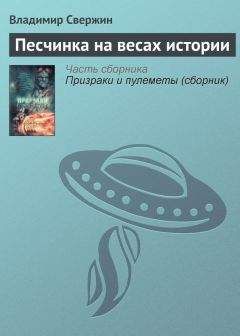– Побойся Бога, Джереми! Моя Дженни была хороша как майская роза и...
– Кому ты это рассказываешь? Давай сюда первые страницы.
Я помог ему устроиться поудобнее, и мы взялись за дело.
– Итак... «Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного происхождения... Мой отец... фамилия моего отца была...» Ладно, сойдет. «Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями». Хорошая фраза. Читатель сразу видит, что ты не лжец и лгать не собираешься. Дальше... «Довольно сносное образование... мечтал о морских путешествиях...» Вот! Вот это место, где ты после отцовской трепки ищешь утешения в объятиях служанки. Никакой трепки не было.
– Как же не было? Две оплеухи, а потом...
– А я тебе говорю – не было. Ты тут живописуешь, как твой покойный батюшка спустил с тебя штаны и выдрал тебя старой перевязью от шпаги. Ничего этого не было.
Джереми изъял из стопки страницу, скомкал и бросил на пол.
– Но почему?
– Потому что ты хочешь пригласить клерка в блистательный мир. И первым делом сообщаешь, что там могут парня выдрать перевязью от шпаги. Итак, дитя мое, сколько в Лондоне клерков?
– Не меньше десяти тысяч.
Я назвал эту великолепную цифру сгоряча – но Джереми кивнул.
– Это похоже на правду. Ты ведь хочешь, чтобы каждый клерк, придя вечером со склада или из торговой конторы, а то и из адвокатского бюро, первым делом схватился за твою книгу? За которую он заплатил деньги, пожертвовав ради книги новыми чулками или модными пряжками для башмаков? Так не сообщай же ему того, что он и без тебя прекрасно знает. Не зли его воспоминаниями о том, что он испытал на собственной шкуре.
– Всех в детстве пороли, – неуверенно возразил я.
– Еще бы! Но для тебя это теперь – крошечная неприятность по сравнению с боевыми ранами. Ты бился с пиратами, ты попал в плен, ты бежал из плена, ты вел себя, как настоящий мужчина, ты одерживал победы над врагами, а клерк? Для него это – основательная неприятность, тем более, что он остался побежденным, униженным, рыдающим. Ты непременно хочешь напомнить ему об этом? Садись, пиши!
У него было дурно очиненное перо, а в чернильнице плавали дохлые мухи, но я, подстегиваемый любопытством, сел к столу и на оборотной стороне счета от квартирной хозяйки под его диктовку написал:
«Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять.
Он спросил, какие другие причины, кроме бродяжнических наклонностей, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние и жить в довольстве и с приятностью...»
– Вот что сказал тебе твой почтенный батюшка, – прервав диктовку, заявил Джереми.
– Да он и слов-то таких не знал.
– Пиши дальше: «Затем отец настойчиво и очень благожелательно стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться, очертя голову, в омут нужды и страданий, от которых занимаемое мною по моему рождению положение в свете, казалось, должно бы оградить меня».
– Старик скончался бы от желудочных колик, если бы услышал этот бред.
– Но клерк будет доволен!
– Почему?!
– Потому что в блистательном мире разговаривают только так, осел! Больно нужно ему слушать речи, которых и в жизни более чем достаточно! Так, что там у тебя дальше? Роман с прекрасной булочницей? Выбрасываем. Прекрасная сапожница? К черту!
Я отнял у него рукопись и молча заковылял к двери.
Два дня я не прикасался к перу и бумаге. Не только обида владела мной – я хотел понять, чем моему бешеному ирландцу не понравилась белокурая булочница Полли Браун. В воспоминаниях моих она была и добра, и безотказна, чего же еще?..
И тут мне на ум пришла моя кузина Бетти Смит. Мы были ровесниками и несколько раз неумело поцеловались на темной лестнице. Я строил безумные планы, как проберусь в ее спальню по веревочной лестнице, но кузину спешно сговорили замуж за пожилого стряпчего. А я пребывал в таком помутнении рассудка, что всякий шорох женской юбки вводил меня в сущее безумие. Еще хорошо, что я покусился на булочницу Полли, а не на ее мамашу. И потом пришлось долго улаживать это дело, чтобы белокурая чертовка не нажаловалась отцу.
Кажется, я начал понимать, что имел в виду Джереми. Бедный клерк, мой будущий читатель, был обречен на унылые и кратковременные романы с женщинами, которые принадлежали другим мужчинам. Ведь никто в здравом уме и твердой памяти не отдаст за него свою дочь. И впрямь, зачем дразнить беднягу?
Я сел за стол и приступил сразу к делу:
«Как-то раз, во время пребывания моего в Гулле, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня уехать с ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, а именно, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом как придется, – не– испросив ни родительского, ни божьего благословения, не приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый – видит бог! – час, 1-го сентября 1651 года, я сел на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, злоключения молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо...»
Я хотел было описать, как первый в жизни приступ вывернул меня наизнанку, но перо замерло над бумагой, и даже большая капля чернил замерла на его кончике, не срываясь. Бедному клерку наверняка было знакомо это гадкое ощущение – и потому я завершил фразу так:
«... и как была потрясена моя душа».
Дальше было легче – я описал, как мы пришли на ярмутский рейд, где были вынуждены бросить якорь и простояли при противном, а именно юго-западном, ветре семь или восемь дней. Долго думал, сообщать ли клерку, сколько пунша мы там выпили. Решил, что незачем будить в его душе такой скверный порок, как зависть.
А потом я вспомнил про шторм – про настоящий шторм, а не ту качку, которая так меня перепугала.
«Ярмутский рейд служит обычным местом стоянки для судов, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу. Мы вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не задул еще сильнее. На восьмой день утром ветер еще посвежел, и понадобились все рабочие руки, чтоб убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде.
К полудню корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз черпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать шварт. Таким образом мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца...»
Тут я задумался – знает ли клерк, что такое шварт? И, сообразив, что впереди у нас с читателем еще много морских словечек, пошел мириться к Джереми.
Он выслушал меня довольно мирно.
– Боб, ты на верном пути, – сказал он. – Пиши со всеми подробностями. Не жалей морских словечек! Чем непонятнее – тем страшнее! Лучше всего, чтобы у тебя там порывом ветра снесло мачту, волной пробило борт, а в дырку влезло щупальце страшного кракена. Это клеркам понравится.
Мне показалось странным, что Джереми так живо представляет себе эту неприятность, словно сам стоял в трюме по пояс в ледяной воде и отбивался от чудовища.
– Ты же сам сказал, что их незачем пугать неприятностями, – напомнил я.
– Неприятности бывают разные. Скажем, страшное чешуйчатое щупальце, которое вместе с водой врывается в трюм, хватает беднягу матроса и тащит его в черную пасть, – неприятность приятная. Очерь отрадно читать об этом, сидя в своей маленькой теплой комнатке, со стаканом грога в руке. Только тут такая беда – наш клерк наверняка уже читал про страшного кракена в другом романе, он примется сравнивать, искать ошибки. Ну, ты понимаешь...
– Ничего себе приятная неприятность! Ты когда-нибудь пытался перерубить топором щупальце кракена?
Джереми уставился на меня с некоторым подозрением.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что видел его?
– И видел, и вопил с перепугу, зажмурившись, пока мне не дали хорошую оплеуху и не всучили топор!
– Хорошо, Боб, хорошо, успокойся, мы понемногу дойдем до того места в романе, где ты повстречал кракена. Итак...
– Да мы уже дошли...
И я заговорил так, как если бы каждому моему слову надлежало лечь на бумагу и обратиться впоследствии в золотой соверен:
– Когда, собравшись с духом, я оглянулся, кругом царил ужас и бедствие. Два тяжело нагруженные судна, стоявшие на якоре неподалеку от нас, чтоб облегчить себя, обрубили все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучшие других и не так страдали на море; но два-три из них тоже унесло в море, и они промчались борт-о-борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера. Им повезло больше нашего. Штурман и боцман приступили к капитану с просьбой позволить им срубить фок-мачту. Капитану очень этого не хотелось, но боцман стал доказывать ему, что, если фок-мачту оставить, судно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так качаться и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом очистить палубу. Судно наше сделалось совершенно беспомощным. В довершение ужаса вдруг среди ночи один из людей, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь. Мой приятель Эдди Аскотт по приказу боцмана поспешил туда, и несколько минут спустя мы услышали его отчаянный крик: «Ребята, кракен!»