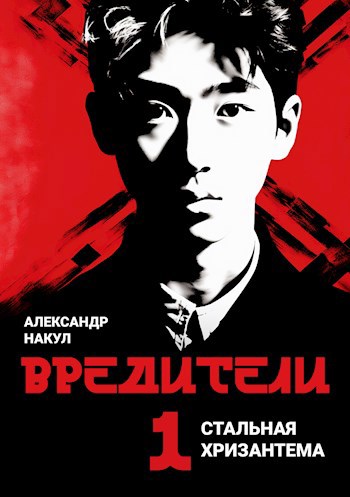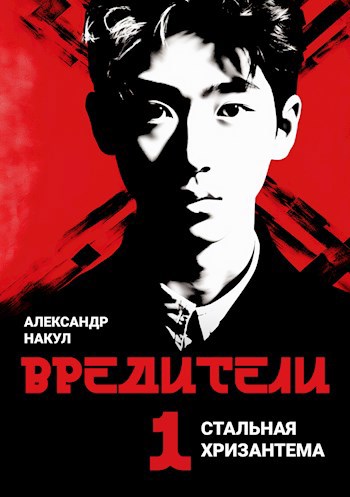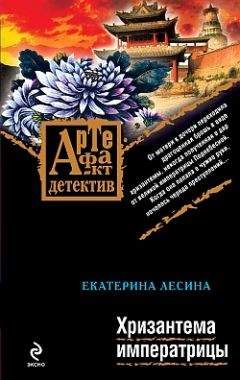Оленького Крика ― и если вглядеться, можно было различить всё тот же пустырь с кучами битого кирпича и колючими зарослями.
Кимитакэ не стал спрашивать, как его друзьям удалось выбраться ― когда захотят, они сами расскажут. Глядя на них со стороны, он видел только, что тело целы, и даже одежда не порвана ― только и лицо, и одежда перепачканы чернилами.
Наконец, они вышли на трамвайную остановку, где снова вернулось ощущение привычной реальностью с её трамвайными маршрутами и семестровыми экзаменами. И только теперь Кимитакэ осмелился нарушить молчание:
― Теперь предстоит самое сложное,― сказал он,― Объяснить родителям Ёко-кун, где она пропадала всю ночь.
― Я справлюсь,― пообещал Юкио,― Доставлю её в целости и что-нибудь сочиню по дороге.
― А если они не поверят твоим объяснениям?
― Пусть только попробуют не поверить!― сверкнула глазами Ёко.― Я им такое устрою!..
Подкатил первый, ещё совсем пустой и сонный утренний трамвай. Кимитакэ при виде трамвая шагнул назад и махнул рукой.
― Поезжайте вы. Мне прогулиться надо. Собраться с мыслями.
Ёко и Юкио скрылись в трамвае. Тот торжествующе зазвенел и укатил прочь.
Кимитакэ посмотрел налево, потом направо ― и в конце концов просто зашагал вслед за ними вдоль трамвайных рельсов. Утренняя дымка вползала в огромный Токио, так что рельсы могли послужить неплохим ориентиром.
Боевой угар выветрился, но вместо страха почему-то пришла тоска и стиснула костлявой рукой солнечное сплетение. Это не была тоска по чему-то конкретному ― а просто ощущение, что, может быть, самое важное в твоей жизни произошло только что и больше не повториться. И никто, кроме тебя, никогда не поймёт, насколько это было важно.
Кто знает ― может быть само будущее страны решил поединок двух ничтожных каллиграфов, в доме, которого даже не существует…
Каждый шаг звенел, как будто он ступал по фарфору ― и весь город тоже фарфоровый. Так что если он ударит ногой слишком сильно, столица попросту расколется на куски.
Из утреннего тумана выплыла смутно знакомая реклама ― боец сумо, улыбаясь, демонстрировал бочонок наилучшего сакэ из риса «Ямаданисики». Получается, он забрёл в Дайканъяму.
Удивительно, но бойцы сумо, которые рекламируют сакэ ― единственный национальный образ в рекламе. Да, бойцы сумо, а ещё знаменитый писатель Танидзаки. Только Танидзаки рекламировал другое сакэ, из Нада, и упирал ни на сорт риса, а на кристально чистую воду местных источников, “что делает сакэ из Нада особенно вкусным”.
Конечно, потребитель из высшего света, вроде отца Соноко, только усмехнётся такой простонародной рекламе. Но сорт Дайгиндзё, с его тонким фруктовым и цветочным ароматом и немыслимой ценой за бутылочку, всё равно не нуждался в рекламе.
Примечательно, что ни в какой рекламе, кроме рекламы сакэ, не использовали никаких образов, которые были бы определённо японским. Продолжая идти по ещё спящей торговой улице, он находил подтверждения на каждом шагу. Мужчины на рекламных плакатах были неотличимы от европейцев, разве что улыбались, не показывая зубов. Вокруг них суетились женские фигурки ― подносили бокал пива, убеждали купить лекарство, предлагали послушать радио и сообщали, что они уже выбрали, куда поедем этим летом. В этих девушках было что-то национальное ― но это было национальное какой-нибудь Мияко Макдональд, экзотической жены пресыщенного европейца. Какие-то из рекламных девушек одевались и в кимоно, но эти кимоно были цветасто-яркие, а пояс мог быть завязан простым узлом, как у дорогих куртизанок на старинных гравюрах. И даже сверх того: на рукавах такого кимоно могли извиваться цветущие весенние сливы, а на спине полыхать осенне-жёлтые кленовые листья. Бабушке всегда становилось дурно при виде такого преступления против принципа сезонности.
Посетители, конечно, отличались от плакатных идеалов. В таких местах по-прежнему одевались в привычное кимоно и хаори.
Он помнил, что ещё до войны даже в модной толпе на Гиндзе только половина мужчин была в пёстрых европейских костюмах с широкими отворотами и цветастых голливудских галстуках ― и редко-редко мелькнёт среди них по-европейски одетая девушка. Да и она скорее всего просто работница из кафе европейского стиля.
Затем в голову Кимитакэ пришла другая мысль: раз уж он оказался в Дайканъяме, надо бы зайти в гости Накамото. Особенно к Соноко. И рассказать ей…
ЧТО?
На этом месте его разум словно спотыкался. Действительно, что он расскажет Соноко? Что она оказалась права насчёт тайного общества, только не до конца и её, человека без тайных знаний и сверхспособностей, едва ли туда примут? А может, что он только что, кажется, спас страну или по крайней мере Токио ― однако это не точно?
Нет, такого он сказать ей не может. И вовсе не потому, что она не поверит. А потому что сказать ей всю правду он всё равно не может.
А может быть, сказать ей, что на самом деле её не любит и уверен, что семьи у них не получится? Тоже не самое радостное известие. Но если она спросит, почему ― что он ей ответит? Из-за её тела? Из-за её характера? Конечно, её тело не похоже на идеалы красоты нашего времени ― но при этом не было в нём ни уродств, ни увечий, а то, что непохожесть на идеал ― это не порок, а оригинальность. Кимитакэ прекрасно понимал, что дело не в нём и что в таком теле есть .
Да и в характере у неё нет каких-то страшных изъянов и пороков. Она даже не курит. Они не очень понимают друг друга, но сравнивая со своей собственной семьёй, с отцом и матерью, с дедушкой и бабушкой, он был вынужден признать, что пара они с Соноко почти идеальная.
Окажись на его месте д’Аннунцио, он бы наверняка