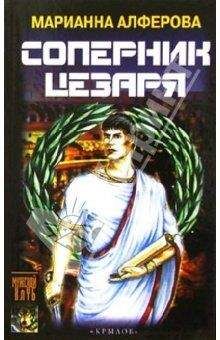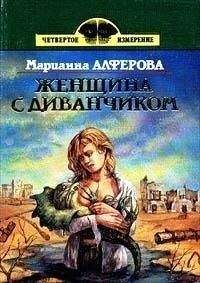— Кому будешь мстить?
— Эбуронам. Всему племени. Но лишь ему одному. Верные не должны пострадать. Как только мои легионы двинутся в их земли, эбуроны побегут в леса и болота. Идти туда мелким отрядам — смертельно опасно. Нет, я не буду посылать моих людей, я созову со всех сторон союзников и разрешу грабить эбуронов, продавать в рабство и убивать. Пусть в галльских лесах галлы убивают галлов. — Лицо Цезаря передернулось, но тростниковое перо продолжало скользить по папирусу. — Даже имени эбуронов не останется.
— Так можно? — спросил Клодий.
— Вполне. Я всегда был достаточно милосердным, и меня никто не обвинит в природной жестокости. Жестокость бессмысленна. Лишь только я вижу, что кто-то из вождей готов подчиниться, уступить, пусть после бунта или даже войны, я протягиваю такому руку. Пусть это будет новый способ побеждать — состраданием и великодушием. Насчет того, до какой степени это возможно, мне кое-что приходит на ум, и многое можно придумать. Я прошу всех подумать об этом. — Цезарь закончил письмо и отложил тростинку.
— А та деревня, где всем мужчинам отрубили руки? Это тоже милосердие?
— Они напали на наших фуражиров, но я сохранил им жизнь. Галлы просили защитить их от германцев, — продолжал Цезарь, — наши союзники просили. Долг перед союзниками, долг патрона нельзя забывать.
— Сами они не могли себя защитить?
— О, нет! Знаешь, чем галлы отличаются от римлян? Они не умеют сопротивляться бедам. Насколько галлы смело и решительно начинают любые войны, настолько же они слабохарактерны и нестойки в перенесении неудач и поражений.
О да, римляне обладают удивительной стойкостью — этого у них не отнимешь. Никто не верил, что после Канн Рим сможет устоять против Ганнибала. А он не только устоял, но и весь круг земной — или почти весь — привел под свою власть.
Цезарь взял пилум, обернул вокруг него папирус, запечатал своей печатью и отдал Клодию.
— Выеду завтра утром, — сказал Клодий.
Полла лежала на деревянной самодельной кровати, накрывшись солдатским походным плащом, — одну из постелей любезно уступил Клодию писец Цезаря.
— Друиды говорят, сами мы не умираем, — сказала девушка. — Умирают только тела. Наши души вновь возвращаются и проживают новые жизни. Ты веришь в это?
— Может быть и так.
— Я верю. Как думаешь, кем ты будешь в новой жизни?
— Я… — Он задумался. — Буду править Римом. Прекрасным городом, самым прекрасным в мире, куда краше Афин или Александрии.
— Странно. Ты об этом мечтаешь? А я мечтаю, что мы с тобой будем жить в Массилии, ты сделаешься торговцем оливковым маслом. Я буду твоей женой. У нас будет трое детей. Все трое — мальчики.
— Массилия мне не нравится. Туда уезжают наши ссыльные. Мне бы не хотелось каждый день вдали от Рима видеть их кислые рожи.
— Тогда у нас будет небольшое имение, и мы будем растить хлеб, — предложила Полла. — Ты будешь высекать из мрамора статуи и подписывать их каким-нибудь знаменитым греческим именем — так делает один римский изгнанник в Массилии. Я его знаю. Его Венеры и Марсы стоят почти в каждом атрии нашего города.
— Ну, не знаю, смогу ли выдать обрубок мрамора с греческим именем за творение Мирона. Этому надо учиться. Все, что я сделал в своей жизни, — это статую Приапа для своей Альбанской усадьбы.
— Ты не похож на других. — Она смутилась на миг, или, вернее, изобразила смущение. — Тут для тебя хлеб и сыр.
Она соскочила с постели, положила перед ним на дубовый чурбак, служивший столом, ломоть хлеба и половину головки сыра. Клодий не стал говорить, что уже поел. Отрезал кинжалом кусок сыра. Она смотрела, как он ест, почти восторженно.
— А ты сама? — Он подвинул в ее сторону кусок хлеба. Губы ее изломились — то ли улыбка, то ли плаксивая гримаса стянула лицо.
Он налил из кувшина в чашу разбавленное вино, протянул ей, она отпила.
— Никто не приметил, что ты женщина? Женщине в лагере быть нельзя.
Она затрясла головой.
— Ну и прекрасно.
Он лег на кровать, притянул ее к себе. Она не сопротивлялась.
Бросить просто так в лагере свою спутницу Клодий не мог — она оказала ему услугу, возможно, спасла жизнь не только ему, но и всему лагерю Квинта Цицерона. Клодий должен был вернуть благодеяние. Потому надо было спешно утром, до того, как поедет назад, найти для девушки пристанище в Самаробриве.
У всех городских ворот стояли римские караулы. Солдат в Самаробриву не пускали без пропусков. Таков приказ Цезаря: чтобы легионеры не проникали в город союзников и не безобразничали. Развлекаться солдатам позволялось за городской чертой. Тут уже построили несколько харчевен, лавок и лупанариев. Диплом сенатора,[149] разумеется, открыл Клодию ворота Самаробривы.
Почти сразу удалось отыскать какого-то торговца из Провинции и снять в его доме комнатку для Поллы. Романизированный галл, правда, потребовал плату за полгода вперед и цену заломил совершенно бессовестную, как будто это была комната не в каком-то крошечном городке в Белгике, а в самом Риме. Но Клодий не торговался, ему хотелось устроить девушку и знать, что ей ничто не угрожает. К тому же времени искать другое пристанище не было. Полла относилась к его хлопотам равнодушно. Казалось, ее не занимало, будет ли у нее завтра крыша над головой, или ее бросят посреди дороги, как дешевую солдатскую потаскушку. Клодий отдал ей все золото, какое было при нем, все равно в пути к лагерю Цицерона и обратно оно не понадобится.
Прощаясь, крепко поцеловал девушку в губы.
— Мы еще увидимся, — пообещала она.
Галлия восстала. Но галлы проиграют. Потому что римляне есть римляне, и у римлян есть Цезарь.
Из записок Публия Клодия Пульхра
Конец декабря 54 года до н. э
Клодий ехал рысью. Данное поручение его не слишком беспокоило — дорогу он знал. Ехать было не так уж далеко, главная опасность исходила от галльских отрядов. Правда, вид у Клодия был совершенно варварский, а его дар лицедейства и тут сослужил неоценимую службу. Вот только Клодий почти не знал местного наречия. С помощью Поллы он выучил пять или шесть слов, как показалось Клодию, самых необходимых. Но он не был уверен, что поймет, если его о чем-нибудь спросят аборигены.
Езда в одиночестве располагала к раздумьям — о себе, о Цезаре, о Риме. Встреча с Цезарем удивила. То, что император не пожелал говорить о Юлии, — это решение понятное и естественное для римлянина, который прячет свою боль, а не выставляет напоказ. Но о римских делах Цезарь не обмолвился ни словом, и это показалось странным. Как будто он здесь, в Галлии, уже не зависел от того, что творилось в Городе. Казалось, императора волновали только местные проблемы: восставшие галлы и попавшие в засаду легионы. «Полузнайка», — называл Цезаря покойный Катулл. Полузнайка… Так чего хочет этот полузнайка, и почему в Риме его так боятся?… Да, Цезарь по одну сторону Альп, Рим — по другую. На галльское золото Цезарь покупает себе сторонников. На сокровища Востока Помпей их перекупит. Потом начнут сорить золотом оптиматы — но у тех возможностей куда меньше. Наконец Клодий предложит свою цену — через клиента Гая место в списке на бесплатный хлеб. Но ведь так нельзя — постоянно перекупать друг у друга горстку продажных бездельников. Когда-то народный трибун Ливий Друз пытался опереться на провинциалов. Друза убили, но дело кончилось войной. Право голосовать италики получили. Но то — лишь название, а не подлинные голоса. Если создать консилий…
«Консилий», — цокали копыта по мерзлой земле…
Одним этим решением Клодий купит себе надолго — на всю жизнь — тысячи голосов. Ему мнилось в шелесте деревьев, что он слышит эти голоса. Одним ударом он свалит и Цезаря, и Помпея…
«Консилий», — ударяли о землю копыта.
А если расписать еще по трибам вольноотпущенников, то тогда Римом будет править Клодий. Один только Публий Клодий…
Надо принять закон о консилии. Принять закон, против которого восстанут все — и Цезарь, и Помпей, и сенат. Весь вопрос в том, как Клодию всех обхитрить?
«Консилий…» — шелестело в кронах.
Вокруг стоял дикий галльский лес, торжественный, холодный, чужой. То и дело с ветвей обрушивались пласты снега. Навстречу пока никто не попадался, и Клодий ехал безостановочно. Лишь однажды опасность оказалась близка, но ему повезло: еще издали он услышал голоса и успел спрятаться в низине, среди зарослей ивняка. Отряд богатого галла со свитой неспешно проследовал по узкой лесной дороге и скрылся. Дальше Клодий ехал уже прямиком через лес — все на восток. Вскоре впереди он заметил дымы. Сомнений не было: впереди лагерь Квинта Цицерона, а вокруг — галлы. Дальше через дубовую рощу он скакал прямиком, ни от кого не таясь. Главное — пройти через укрепления нервиев. И опять ему повезло: на него не обратили внимания — он был какой-то до невозможности свой, ни у кого не вызывал подозрений. Возле галльского вала Клодий остановился. Пробираться дальше было бессмысленно — его тут же заметят и всадят в спину с десяток дротиков и стрел. Метнуть же пилум с письмом при его сноровке было делом нехитрым. Клодий наметил крайнюю башню и бросил пилум. Видел, как наконечник вонзился в бревно, дротик согнулся, но не сломался. Держите подарок, ребята! Он представил, как кто-то из легионеров, непременно раненый и уж точно — голодный, возможно, его новый друг Луций Ворен, шепча проклятия в адрес галлов и молитвы своенравной Фортуне, обходит караулом лагерь. И видит дротик. Видит, к дротику что-то привязано. Он спешно лезет по ступеням и выдергивает наконечник. Осторожно, боясь поверить в удачу, снимает записку и бегом — непременно бегом — мчится к легату. Квинт Цицерон, взяв папирус и увидев греческие буквы, вдруг хватается за грудь и едва не падает. Пытается читать — слезы застилают глаза. Наконец, стерев ладонями ненужную влагу и держа записку на вытянутой руке, — уже не молод и вблизи видит плохо — Квинт читает…