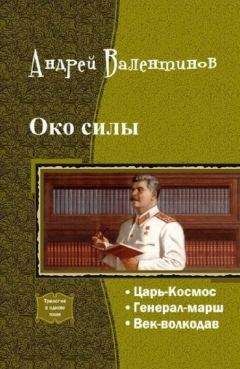Леонид перевел дух. Стало заметно легче, хотя боль не пропала, лишь отступила к затылку, готовая в любой момент вернуться.
– Мы в гондоле нашего «Линейного», – без особой нужды пояснил Блюмочка и не без удовольствия прибавил: – Сейчас начнется!
Пантёлкин недоуменно моргнул, и Яша соизволил пояснить.
– За нами гонятся. Погляди в иллюминатор.
* * *
…Яркое весеннее солнце царило над миром, наполняя прозрачный эфир теплом и светом. Синяя бездна, золотое сияние… После долгих дней тюремного полумрака смотреть на восхитительное весеннее буйство было почти невозможно. Горячий желтый огонь слепил глаза. Леонид вытер непрошенные слезы, резко выдохнул застрявший в горле комок, с трудом справился с приступом воспрянувшей боли.
Где же? Ага, вот! Среди бездонного синего неба – нестройный караван серых туч, а прямо над ним – острый серебряный силуэт воздушного аппарата.
– «Красная звезда», – сообщили наушники. – Мы полет специально под нее подгадали, чтобы народ удивлялся меньше и тревогу объявлять не спешил. Но у них на борту радио, того и гляди аэропланы на нас наведут.
Первенец советского дирижаблестроения был уже близко. Леонид мог разглядеть висящую на тросах серебристую гондолу, точно такую же, как на «Линейном», бешено вращающийся винт, красные буквы на серой ткани обшивки. Их явно догоняли. Пантёлкин хотел спросить у всезнающего Блюмочки, что тот задумал, но не успел. Гондола наполнилась грохотом и дымом. Шлем не помог, Леонид прижал ладони к залитой болью голове, и прикрыл глаза, пытаясь сдержать стон.
Заработали пулеметы.
Глава 10. Сатирусы и не только
1
Этой ночью красный командир никак не мог заснуть. Впервые за многие месяцы очень хотелось курить, он достал подарок Генерального, закусил мундштук зубами. Не помогло, трубка была новой, еще не раскуренной, без табачного духа. Просто сухое мертвое дерево.
Краском сидел на узкой железной койке, держа в руках бесполезную трубку, смотрел, ничего не видя, в темное ночное окно и слушал гремевший на волне памяти ненавистный марш Чарнецкого. Большая Крокодила прусским шагом маршировала по комнате общежития, высоко вскидывая зеленые когтистые лапы и бодро подмигивая на ходу. Зеленая тварь торжествовала не зря, и марш вспомнился не просто так.
Он ошибся, и кажется, непоправимо.
Командир никогда не считал себя героем. Воевать пошел добровольно, из чувства долга, надеясь в душе, что победа Всемирной Революции воспоследует если не через полгода, то через год всенепременно. Когда же закрутило, потянуло по горящим фронтам, мечты стали скромными и очень конкретными: выспаться, поесть, выжить, вновь увидеть пропавшего без вести товарища… Грядущее представлялось уже не великим торжеством всепланетной Коммунии, а возможностью вернуться домой, снять опостылевшую форму, заняться чем-то таким, от чего не пахнет кровью.
Ничего не вышло. Родственников убила «испанка» в 1919-м, дом забрали соседи, он же, чудом уцелевший инвалид, вынужден донашивать то, что когда-то выдало интендантство. На костюм и пальто скопить не удалось.
Соглашаясь на работу в Техгруппе, демобилизованный краском рассчитывал и вовсе на самое малое. Работа по силам, жизнь в Столице, в перспективе, если повезет, институт. Во что все вылилось, не хотелось и думать. Выжить на фронте можно, большая часть ушедших на войну все-таки возвращается. На том фронте, куда он попал, шансы совсем иные.
Марш Чернецкого не умолкал, Крокодила, обнаглев совершенно, щерила пасть, дразнясь длинным розовым языком. Она, она голодная была – но не слишком унывала. В страшной бессмысленной атаке на польском фронте тварюка под разухабистый гром оркестра сожрала весь их батальон, теперь же доберется и до него самого.
Красный командир ошибся, но не в марте 1923-го, согласившись на работу в Технической группе ЦК, а намного раньше. Не тогда ли, в начале сырого, стылого декабря 1919-го, когда узнал о расстреле товарища Полонского?
Краском прикрыл веки. Из бездонных глубин памяти пахнуло знакомой горькой гарью.
Горит черный костер!
* * *
– …Полонский, командир 1-го Стального кавалерийского, его жена, Семенченко, его адъютант. Затем товарищ Вайнер – он прежде в 1-м Екатеринославском полку служил, а еще товарищ Бродский, бывший военный инспектор. Их вчера расстреляли, 2-го декабря. Арестовали еще человек сорок, из них сейчас измену шомполами выколачивают…
Слушает атаман Нечай, сжимает кулаки, до боли, до хруста.
Не верит.
Зимой и весной этого страшного года в РККА начали стрелять командиров. Некоторых по суду, обвинив в абсолютной ерунде, большинство же просто так, в порядке дружеской беседы. Поговаривали, что не по душе товарищу Троцкому излишне самостоятельные «партизаны». Уже попав к Махно, Нечай узнал, что пуля нашла товарища Щорса, навстречу которому прорывалась Южная группа. Враги стреляют в лицо, начдива убили в затылок.
В декабре «партизанов» стал расстреливать Махно. Товарищ Полонский и все остальные прежде служили в Красной армии, взглядов своих большевистских не скрывали, и никто этим их не попрекал. Теперь же, выходит, они изменники? И все прочие, с кем сейчас товарищ Голик, начальник контрразведки Повстармии, беседы душевные ведет? От черного огня несло трупным смрадом. Как понять? Или товарищ Махно не герой революции, а обычный бандит, только с тачанками?
Чего молчишь, комиссар?
– Не бандит он, – хмурит брови комиссар. – Был бы бандитом, чего ему желать? Степь да воля, добыча да песни у костра. А теперь? Не Украину он освобождает, а территорию под себя гребет. Катеринослав у него вроде столицы, в столице же той – власть, а никакая не «анархия». Вот тебе штаб, вот – контрразведка. Начальников не любишь? Так посмотри на Махно, кем он стал? Петлюра от России кусок отрезать хочет, и этот хочет. У Деникина царство царя Антона, а здесь – царя Нестора. Вот тебе и вся свобода. Не веришь мне – глаза протри да взгляни повнимательней.
Смотрит атаман Нечай, не видит ничего. Черное пламя перед глазами, густое, душное. Догорает вольная степная Утопия.
– Завтра уходим всем полком, – решает комиссар. – На север прорвемся, к Полтаве, там уже наши. Начальству и ЧК доложим, что из Южной группы мы, к Киеву шли да не попали, и будет это самая настоящая правда. Ты молчи, я сам за всех скажу и телеграмму, кому следует, отобью. Не пропадем!