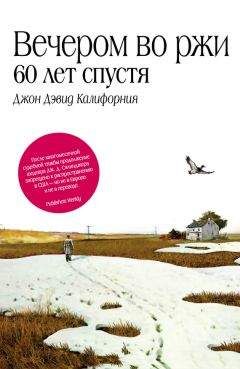Беру пузырек под желтой крышечкой, но не открываю. Медленно верчу в пальцах так и этак, таблетки внутри перекатываются со зловещим шорохом. Отсюда мне хорошо видно кляксу на оконном стекле, и я представляю себе, каково это – пробудиться от ночного сна, выпорхнуть из лесной чащи, пролететь над садом и – бах! – врезаться в невидимую стену. Я бы прямо в воздухе окочурился, не долетев до земли. Фигово было бы так окончить свои дни, точно говорю.
Что-то мне тревожно, не могу усидеть на месте; встаю, опять поднимаю раму и смотрю вниз, на воробья. Замечаю, что мир больше не молчит. Слышно, как ветер с глухим шипеньем пробирается сквозь кроны деревьев и скользит по крыше дома. Почему-то мне становится жалко доктора Розена. Это чувство всплывает откуда-то снизу, как мыльный пузырь, а жалко доктора мне потому, что он расстроится, когда узнает, что я не взял с собой назначенные мне таблетки.
Но таблетки теперь ни к чему; самочувствие у меня превосходное. Кроме того, сумку я брать не собираюсь, а таскать три аптечных пузырька в карманах мне не улыбается.
Раз вещи собирать не нужно, заняться мне особенно нечем; достаю из шкафа темно-синюю куртку, набрасываю на шею шарф и в последний раз, уже на ходу, смотрюсь в зеркало.
И едва не отшатываюсь. Не потому, что я так жутко выгляжу, ничего такого. Одет прилично, белые волосы зачесаны набок. А напугало меня выражение моих глаз. Полубезумный взгляд, как у капитана, который стоит на носу своего галеона и видит приближение шторма. Одна часть его сознания вопит: «Тысяча чертей!» – а другая молит: «Приди, забери меня с собой». А улыбка – и того чище. Пересушенная, бесформенная, скривила мне половину рта. Это, наверное, потому, что улыбаться мне здесь некому и улыбка на моей физиономии – как на корове седло. Но сдержать ее нет возможности; я просто отворачиваюсь от зеркала и выхожу.
С аллеи, когда впервые сюда приезжаешь, выглядит оно, по-моему, неплохо. Бежевого цвета здание с островерхой викторианской крышей смахивает на кремовый торт. Вдоль задней стены – сад, а с восточной стороны, почти у самого лесочка, – теннисный корт. Впрочем, корт по назначению не используется: в хорошую погоду на площадках расставляют шезлонги. Считается, наверное, что старики от этого помолодеют.
Есть столовая с окнами от пола до потолка, есть библиотека, есть шафлборд, гончарная мастерская, музыкальный салон, искусственный каскад, павильон со стеклянным потолком, чтобы любоваться звездным небом, вестибюль, где за стойкой сидит дежурная, и, конечно, подъездная аллея. Так идеально вымощена, что лучшего и пожелать невозможно. В глухомани такого не ожидаешь. Думаю, раньше тут была обыкновенная гравиевая дорожка, и замостили ее главным образом для того, чтобы дети, привозя сюда мать или отца, могли сказать: «Видишь, как они ухаживают за территорией? А за тобой будут ухаживать еще лучше!» Чтобы вы могли наглядно представить себе, какая тут обстановка, расскажу вам про здешнюю тропу. В саду за домом есть асфальтированная тропа, которая змеится среди кустов и ведет к навесу, как две капли воды похожему на автобусную остановку. Пациенты проходят по тропе, добираются до автобусной остановки, садятся в свои кресла-ходунки и ждут автобуса. Беседуют – кто друг с дружкой, кто сам с собой, и часами, изо дня в день, ждут автобуса, не вспоминая о том, что автобус здесь не ходит. Когда близится обеденное время, персонал следует той же тропой и препровождает в здание тех, кому еще не надоело ждать. После обеда пациенты опять высыпают на тропу и малой скоростью семенят, огибая кусты, чтобы не опоздать на автобус. Наверное, задумывалось это без всякой задней мысли, но в этом ожидании несуществующего автобуса мне видится какое-то издевательство. Ну, по крайней мере, теперь вам ясно, какая здесь обстановка.
«Саннисайд» – не какой-нибудь банальный дом престарелых. Здешние пациенты очень высоко себя ставят. Я что хочу сказать: многие уже под себя ходят, но требовательны до невозможности. Если рассуждать цинично, правда заключается в том, что мы сюда переехали из житейских соображений. Хотя, к слову сказать, дела житейские здесь мало кого волнуют.
Взять, к примеру, тот день, когда забирали мистера Александера: ход вещей даже не замедлился. Нет, в столовой, конечно, не было такого гвалта, как обычно, но потом одна дамочка в голове очереди развязала язык, за ней другая, третья, и вскоре все вернулось на круги своя. Через пару часов никто уже не вспоминал, что был среди нас такой мистер Александер. В «Саннисайде» есть неписаное правило: помалкивать о тех, кто не спустился к ужину. До приезда сюда я знал название этого места, но от вывески над входом просто обалдел. Деревянная такая доска, надпись выжжена вручную – видно, кто-то из пациентов на славу потрудился в столярной мастерской. Вывеска гласит: «”Саннисайд” – самый домашний дом». В жизни не слыхал такого наглого вранья. Во-первых, никто в «Саннисайд» по доброй воле не едет. Всех сюда сдают. Черта с два здесь найдешь хоть что-нибудь домашнее. А во-вторых, люди переезжают сюда с одной-единственной целью, но во всем мире не найти худшего места, чтобы там встретить смерть.
Понимаете, у «Саннисайда» есть одна особенность. Здесь дело поставлено с оглядкой на то, как молодежь представляет себе вкусы стариков. По большому счету нельзя сказать, что тут сплошная показуха, но это место ничем не лучше других. А куда еще податься? В том-то вся штука. Вот что меня убивает.
Впервые у нас зашел об этом разговор сразу после Рождества. Я гостил у него в Калифорнии. Мы сто лет не беседовали наедине – и вдруг оказались у него в кабинете, с глазу на глаз. Он сидел за письменным столом, а я в кресле, лицом к нему. Ладонью он прижимал какую-то штуку, и от него не укрылось, что я это заметил.
Это самое лучшее место, папа, сказал он, и я понял, что спорить бесполезно.
Когда на меня давят, из меня с присвистом выходит воздух. Всю жизнь – как проколотая шина.
А-а-ах! Уже чувствую, что смрад начинает выветриваться. Наконец-то смогу дышать полной грудью. Я его догоняю, но он ушел далеко вперед. В принципе, никаких хитростей тут нет, просто надо вначале дать толчок, а дальше дело пойдет само собой. Я всего лишь заношу пальцы над клавишами – и они танцуют без моего вмешательства. Как будто еще не забыли.
Так вот, надо просто подгадать момент – и разрубить узел.
Один человек сказал: «Труднее всего не сделать, а придумать», и я склонен с ним согласиться. Тогда возникает вопрос, как рождается повествование – верно ли, что кто-то должен его создать, или правда в том, что оно создается само собой, но сейчас, как мне кажется, философствовать не время.