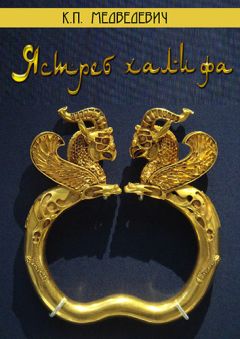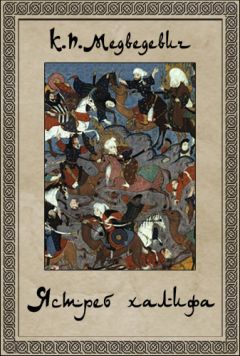— У твоего народа… как принято женщине выказывать благодарность воину?
Светящиеся серые глаза изумленно расширились.
— Разве вы, нерегили, не знаете толк в вежестве? — Айша улыбнулась, наблюдая его смущение и растерянность.
Наконец, он решился:
— Дама позволяет рыцарю преклонить колени и поцеловать ее руку.
Это он сказал по-аураннски, но Айша поняла. И звонко рассмеялась:
— Поцеловать руку?
И взмахнула унизанными сапфирами пальцами:
— Преклони же колени, воин.
Дождавшись, когда его лицо окажется совсем рядом с ее ладонью, она легонько приподняла руку — странный жест давался ей с трудом. А он мягко взял ее руку в свою и прикоснулся к нежной коже губами. Айша вздрогнула и отдернула ладонь. И быстро прикрыла лицо покрывалом.
— Иди.
Он молча склонил голову, поднялся с колен — и мгновенно исчез в зелени сада.
весна
409 год аята,
джунгарские степи
Им говорили, что имя этому городу — джунгары называли это городом — Алашань. Высокие, в шесть человеческих ростов, стены из замешанного на тростнике глиняного раствора, окружали продуваемое и пропыленное месиво таких же саманных построек — джунгары называли это домами. Низенькие, с сарай для ишака высотой, они лепились друг к другу среди непролазной грязи осенних дождей и удушающей летней пыли: соломенные навесы, разносимые ветром среди хлипких саксаульных столбиков, поддерживающих убогие крыши над внутренними двориками, переулки, теряющиеся между глухими заборами-дувалами, бредущие среди свистящего желтого песка замотанные в тряпье фигуры.
Крохотная башенка альминара торчала одиноким пальцем, вопросительно уткнувшимся в небо. Ойраты принимали веру целыми кочевьями, и по пятницам глину и песок между серо-коричневыми стенами, кое-как сложенными из необожженного кирпича, месили ревущие верблюды и мохнатые лошади. Араган-хан ставил свою юрту прямо в пустом прямоугольнике между стенами маленькой масджид и крепости, остальные разбивали становища в ложбинах за городом. Завтра был праздник Жертвоприношения, и голую вымерзшую степь вокруг Алашаня утыкали грязные пупырышки юрт и колотящиеся на пронизывающем ветру тряпки на вбитых в землю копьях — джунгары называли это знаменами.
— Дорогу, дорогу воинам халифа, сыны праха! — дождь развез грязь под копытами в глубокое глиняное тесто, кони оскальзывались на разъезжающихся ногах, до смерти усталые ханаттани лениво шлепали плетками.
Здоровенный верблюд, лежавший поперек узкого прохода между стеной мелкой кирпичной кладки и растрескавшимся дувалом, замотал мохнатыми горбами и, вздергивая губастой головой, вихлясто поднялся на ноги. Его нещадно били хворостинами мальцы в стеганых грязных штанах и драных дерюжных халатах, перетянутых соломой. Верблюд натужно заревел. Саид услышал, как сзади ржут и бьют в стену копытами запнувшиеся кони. Засада?.. Вдаль по узкому топкому проходу плелись, оскальзываясь босыми ногами, похожие на тюки женщины — на края покрывал налипла грязь и они тяжело волочились в раскисшей глине, дети верещали, цепляясь за подолы и рукава. Верблюд, косо переставляя голенастые длинные ножищи, капая со слипшегося в клочья шерсти мохнатого брюха, дал себя увести в соседний двор — там уже орали и слышались удары плети и детский визг.
— Дорогу, твари, дорогу! — рявкнул Саид, и дал шенкелей.
Волочащие свои выводки бабы визжали и облепляли стены, пластаясь на кирпиче, пока хатаннани рысили мимо, — задевая стременами плечи и головы, постегивая по робко протягивающимся рукам: подай, хороший господин, подай во имя Всевышнего. Мелькали смуглые грязные лица, до носа замотанные серым тряпьем, дети визжали, то ли от стаха, то ли от восторга — тусклое степное солнце пускало зайчики от длинных лезвий копий и дротиков, играло на верхушках обмотанных чалмами шлемов, серебряных украшениях кожаных панцирей и воротах кольчуг.
Вороной Саида поддал задом и острое стальное навершие висевшего у седла щита ударило в саманную стену — полетели осколки и пыль, кругом заверещали, Аль-Аксум вздергивал голову и ржал, приплясывая и грозя встать в свечку, юноша пару раз потянул из стороны в сторону поводья, продергивая между зубами коня мундштук и не давая тому закусить удила.
— Господин, хороший господин, да помилует тебя Всевышний, скажи своему богу, скажи богу с белым лицом про моего мужа, что он не виноват, скажи богу, который сидит в крепости… — вынырнувшая из-под копыт джунгарка уцепилась немытой лапкой за широкую узорчатую ленту поводий, по косоглазому личику текли слезы, одна тряпка обматывала ее лицо, другая, закрепленная соломенным жгутом надо лбом, служила ей заместо покрывала.
К ее груди примотано было что-то маленькое и тоненько плачущее. "Ля-а, ля-а", — Саид знал этот крик с детства. Крик голодного младенца.
— Его зовут Итлар, Итлар, он не виноват, он просто шел с ними к Тарбагатаю, а он не из улуса Галдан-хана, он не ходил к Красному Тальнику той ночью, Небом клянусь, хороший господин, да благословит тебя Справедливый…
Она стонала и хлюпала носом, бормоча на смеси аш-шари и джунгарского, а младенец верещал все громче и настырнее. Саид замахнулся треххвосткой, и она шарахнулась к стене, закрываясь оборванными рукавами, и все скулила:
— Господин, господин хороший, скажи своему богу, богу с белым лицом, пусть Итлара не казнят, он не грабил тот караван, скажи своему богу…
Южан наконец-то вынесло на улочку пошире, с которой в скрипучие покосившиеся ворота ныряли серые, похожие на узлы с тряпьем, тени. Саид воззвал к Всевышнему: день уже перевалил за вторую половину и он молился, чтобы Милостивый позволил ему доставить пленных в крепость без приключений и кровопролития.
…Крохотный огонек в глиняном каганце мигал под сквозняком, тянущем из-под прикрытых ставней. Деревянный засов на них ходил ходуном и равномерно стучал о скобы под порывами ветра — комнаты Белолицего располагались высоко, выше всех в городе, на третьем ярусе Новой башни, и ветры из степи безжалостно хлестали кирпич ее серо-желтых стен.
Мыньци стоял на коленях, прижав лицо к ледяному полу, стараясь унять дрожь во всем теле. Купец не первый раз держал доклад перед лицом Белолицего, но это ничего не меняло: стоило ханьцу вглянуть в холодные глаза сидевшего на возвышении существа и увидеть бесстрастную, равнодушную улыбку, как колени его подкашивались, а спина сама собой перегибалась пополам. Впрочем, Мыньци не был уверен, что Белолицый улыбается: в его родном Ханьсу так смотрели изваяния в горных храмах, посвященных божествам-хранителям провинции. Небесный полководец Чжун поднимал свой меч, грозя духам Полночи, а губы воителя изгибались в странной, нездешней усмешке: с лица глядело то ли презрение — мол, что мне до копошащихся на рисовых полях людишкек, то ли печальное всезнание — жизнь человека подобно взмаху крыла мотылька, сегодня он есть, а завтра нет, и вот уже другой мотылек вьется над цветком. А на следующей день и цветок увянет, и бабочки разлетятся, и горный снег покроет долину, погубив в завязи и сливу, и вишню. Каменные лица изваяний, источенные ветром и капающим из-под крыш дождем, беспристрастно взирали на суету презренного мира, вынося мельтешению людских страстей приговор Вечности.
Закусив длинный ус, Мыньци с опаской приподнял лоб и попытался подглядеть — что же делает Белолицый. От остальной комнаты возвышение отгораживала завеса тонкого белого шелка. В широкую прорезь на ней влетал ветер из хлопающего ставней окна, и ткань отдувало ветром. Тогда купец видел, как на низеньком ханьском лаковом столике мигает огонек в бронзовой лампе-драконе, еще одна лампа неровно горит на высоком кованом поставце, и ее дрыгающийся свет отражается на лаке деревянной стойки с двумя спящими длинными мечами. Этот же неверный свет мерцал на широких золотых браслетах, придерживавших рукава у нечеловечески тонких запястий: одна узкая белая ладонь лежит на свитке, другая рука ведет по бумаге простой кисточкой из вишневого дерева.
Перед ступенями возвышения стояло широкое блюдо, полное воды. Огоньки переливались в его негостеприимной черноте, а гладкая поверхность шла рябью с каждым свистящим порывом ветра. Рядом с блюдом стоял засыпанный желтоватым мелким песком поднос. В густеющем за окнами сумраке перекликались во дворе крепости ашшариты, из-за стены доносились крики и вопли толкущихся на базаре перед воротами людей.
В лицо писавшему Мыньцы заглянуть не решился, и снова уперся лбом в холодные неровные кирпичи пола.
Наконец из-за завесы прошелестело:
— Воистину, тебе нет цены, купец. Ты вошел давно, но тебе хватило терпения держать свой рот закрытым. Когда ибн Сину спросили: "Что человеку труднее всего?", знаешь, что он ответил?