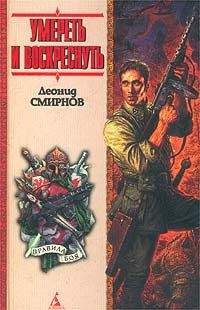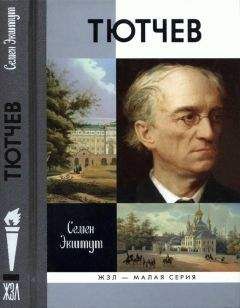Затем была степь — столь не любимая мною. Она раздавлена безжалостными небесами и вопиюще гола. На открытой местности такой непомерной величины я всегда ощущаю себя слишком уязвимым, совсем беззащитным. Лесной я человек — ничего не поделаешь. К тому же с аэроплана легко обнаружить маленький караван, плывущий в море ковыля или полыни, тянущемся на сотни верст.
Только добравшись до первых рощиц и перелесков, я почувствовал себя мало-мальски уверенно. Теперь, случись что, есть надежда затеряться меж деревьев, нырнуть в заросли, пересидеть в брошенной берлоге или под кореньями вывороченного бурей лесного великана.
Расплатившись с проводником, какое-то время мы ехали одни. В деревне Малаховке мы пересеклись с обозом. Это был длинный обоз, везущий в город бочки с солониной. По приказу губернатора в каждом уездном центре создавался стратегический запас на случай чрезвычайных обстоятельств. Не самое глупое решение по нынешним временам. Этак можно зауважать власть предержащую. Правда, разворуют запасы скорее всего. Один рассол останется да мешки с сахарной пылью.
Я договорился о цене с «главным караванщиком» и дал на лапу охранявшему казенное имущество хорунжему. Он имел под своим началом троих снулых казаков. Потом я дешево продал измотанных трехсуточным маршем низкорослых джунгарских лошадок, и мы заняли место на запряжке в середине обоза — на прочно сбитом возу, который тянул пегий флегматичный битюг по кличке Оська.
Возница — крепкий мужик в штопаном зипуне и портках и новеньких онучах — оказался не в меру словоохотлив. Он мог говорить долго и путано — то и дело возвращаясь к сказанному, трижды повторяя одно и то же, но рано или поздно добирался до сути. И главное, он не слишком усердствовал, расспрашивая нас, — удовлетворился моей ладно скроенной легендой о спаленном огненными голубями жилье, о родственниках в городе, что обещали приютить погорельцев, поохал, поахал, сочувствуя нашему горюшку, и больше меня и Настю не теребил.
Настя по моему совету больше помалкивала, Анькой занималась. А та, словно уразумев, что опасные скачки по горам закончились и уже не возобновятся, дала себе волю. Там-то наша умничка стоически переносила неприятные толчки, долгое прение в кульке и почти не вякала, а тут чуть что — капризничала и взревывала, аки сирена буксирная: даже мужики, всего на свете повидавшие, вздрагивали порой, а лошади испуганно всхрапывали и ржали.
Возницу звали Епифаном. Много всякого он рассказал; я старался отделить зерна от плевел, и вот что обнаружилось в сухом остатке. В стране нашей огромной новые ветры подули. В который уж раз. В столице власть поменялась. Сначала думали, ненадолго это, даже не пытались вникнуть, кто и зачем скинул прошлого пахана и на его место взгромоздился. Чехарда сущая. А потом замечать стали: с умом человек, пытается сделать что-то толковое, хоть и редко удается. Правда, на местах ничегошеньки не менялось — с тех самых пор, как последний Президент Сибири Василий Лиознов (то бишь «змеюка» в его личине) был застрелен моими и-чу во дворце князей Чеховских.
Верховный Правитель терпел-терпел тихий саботаж маленьких «царьков», затем послал в каждый уезд своего наместника — человека верного. Но не все из них умели с людьми ладить и понимали, чего можно в провинции учудить, а чего уж никак нельзя. Охрана при наместниках была невелика и спасти от гнева народного не могла. А гнев ентот нонче в людишках пробудить — плевое дело, только свистни. На одном конце деревни спичкой чиркни, а на другом «Пожар!» кричат.
Так что кое-где побили ставленников Верховного, иной раз лютой смерти они удостоились — на костре аль на колу. А в других местах наместники сами — со страху, из мести или от одной лишь сволочной душонки — устроили резню, безжалостно бия и правого, и виноватого. Но даже там, где обошлось без кровопускания, не возникло любви между новой властью и народом, не с чего ей взяться. Подозрение было, настороженность, страх обоюдоострый, так что спину не подставляй. Умник бы сказал: «вооруженный нейтралитет», а мужик таких ученых слов отродясь не слыхал. И не дай бог кто из наместников слово грубое выронит или, того хуже, бузотера местного высечет или в кандалы закует. Хоть бы и по делу. Вспыхнут людишки как сухой порох — только ошметки полетят.
Я знал нового сибирского властителя, Виссариона Удалого, лично встречался с ним девятнадцать лет назад. Еще тогда для меня он являл собой загадку. Что он делал все это время — один бог знает. Какие мысли роятся в князе, какие страсти обуревают его сейчас? Я ничего не слышал о нем со времени штурма Блямбы, да и раньше известия об Удалом были смутными: дескать, видели там-то и с тем-то, а потом испарился без следа…
Итак, положение Верховного Правителя было шаткое, и ручкаться с ним — дело рисковое. Однако же никого лучше на политическом небосклоне днем с огнем не сыскать. Если оттолкнем протянутую руку, другой нам никто и не подаст. Да, Виссарион горд, обидчив, горяч, порой опрометчив в решениях, но зато в предательстве отродясь не замечен. Подлость людскую ненавидит пуще любых чудовищ, а это по нынешним временам свойство драгоценное, напрочь позабытое.
Обо всех этих резонах рассказал я Насте, и она согласилась с моим решением — довериться князю. Согласилась целиком и полностью. Не только потому, что всецело доверялась мне, а логику мою живыми чувствами промерив. Нынче, когда жена моя превратилась в маму и почувствовала на себе великую ответственность, едва не в одночасье стала она взрослым, состоявшимся человеком. Имелось у нее теперь свое собственное мнение — по крайней мере, о самом главном.
Одной лишь Аньке было на политические хитросплетения ровным счетом плевать. Она делала, что должен делать всякий уважающий себя младенец: сосала бутылочку с молоком, спала, плакала, смеялась, играла с погремушками, пачкала пеленки. И мы могли ей только позавидовать.
На въезде в город обоз остановили стражники во влажных с ночи мундирах черного сукна. Поговорили с хорунжим и пропустили, не проверяя документов и не заглядывая в повозки. Вопиющее легкомыслие — в теперешнее смутное время. Но нам с Настей оно было на руку.
Кедрин встретил нас на восходе — туманно-дымчатом, пронизанном рассеянными солнечными лучами, от которых тускло заблестели рассыпанные по улицам горсти золотых монет — сохнущих лужиц. Улицы Кедрина казались мне вышедшими из теплого и радостного детского сна.
Проехав с полверсты по Самойловскому тракту, плавно переходящему в Ореховый бульвар, мы поблагодарили возницу, дали ему отдельную маленькую денежку, попрощались, слезли с воза и пошли пешком. Чувство, охватившее меня в те минуты, трудно передать словами. Я словно бы вернулся в прошлое — в ту пору, когда не случилось еще утрат, когда вся семья была в сборе, когда я был любимым старшим сыном — подающим надежды, почти взрослым, но еще ребенком. Великовозрастным ребенком, который мог спрятаться за широкую отцовскую спину, ограждавшую от всех напастей, мог искать защиты у матери, готовой простить любую глупость, мог попросить совета у деда — живого собрания мудрости и колких шуточек на самый разный вкус. Но тогда у славного семейства Пришвиных был свой дом — хоть и малость тесноватый, но такой обихоженный, уютный, знакомый и родной до последней скрипучей половички…
Гора, на которой разместился квартал Желтый Бор, показалась между домами. Жилье лепилось к ее склонам, будто ласточкины гнезда. Желтый Бор, несомненно, походил на горный аул. Эта наша гора без названия полого выгибалась, приподнимая часть города над равниной, и, волной накатившись на речной берег, была обрублена крутым обрывом с вечными осыпями и оползнями. Городские власти уже два века безуспешно укрепляли его посадкой деревьев, частоколами и каменными стенками, но, как видно, желание Желтого Бора искупаться в холодных водах Колдобы было неодолимо.
Мой квартал вскоре исчез из виду. Нам предстояло пройти по городу целую версту, но меня охватило нетерпение, горячка, остудить которую можно лишь ведром ледяной воды. Чего я, собственно, ждал? На что надеялся, стремясь к несуществующему дому? Разве на чудо.
Я против воли ускорял шаг, обгонял жену, спохватывался, останавливался, поджидая ее, и снова обгонял. Спящую девочку я взял на руки, чтобы Насте было легче идти. Она отдала драгоценный сверток не сразу — пришлось уговаривать. Словно боялась, что не удержу, уроню или сожму слишком крепко. Или мне такому, сегодняшнему, она не доверяла? Странные они люди — женщины…
Знакомые с детства дома, заборы, памятники, скверы, площади встречали меня, выскакивали из тумана, словно подкравшись, затаившись и желая сделать сюрприз. Я узнавал их, сердце замирало. И тут же начинало бешено колотиться. Скорей!.. И это, и вот это — все как было, все на месте.
После долгих скитаний по соседним губерниям, на чужбине, в ненавистных мне пустынях я возвращался в свой мир, и мне было радостно. Хотелось попасть домой сию ж секунду и одновременно — чтобы счастливая дорога к дому не кончалась. Но уже начался знакомый до боли Желтый Бор, который нельзя позабыть. Моя малая родина, где Настя никогда не бывала. И еще совсем недавно я сомневался, попадет ли она сюда когда-нибудь.