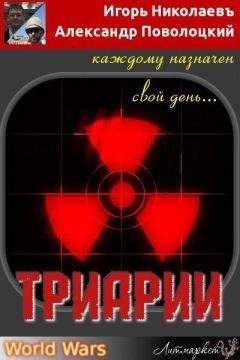Дивизия двигалась вперед, но медленно, непростительно медленно. Соединение словно продиралось через мелкий частый кустарник, оставляя на мелких шипах капли крови и частицы плоти. Штурмдивизия увязла в мелких стычках, вынужденная не рваться вперед на всех парах, а планомерно продвигаться, добивая очаги сопротивления. Потери были ничтожные, но время, драгоценное время! Оно уходило, испарялось, как капли воды в пустыне.
Томас возлагал все надежды на панцерпионеров. Но последнее известие, которое доставил вестовой, гласило, что «братья» натолкнулись на узел противотанковой обороны и ведут тяжелый бой. Изощренный ход с рывком через эпицентр, чтобы избавиться от встречи с противником – не удался. Кто стал на пути пионеров – случайная часть, импровизированный заслон, подходящие резервы?.. В любом случае, они оказались достаточно сильны, чтобы затормозить «черных», а сколько таких заминок еще впереди?
Фрикке бесился, как пошедший вразнос паровой котел – тонкие стенки еще сдерживали бешеный напор ярости, но даже стальная выдержка начинала давать трещины. Кто-то должен заплатить за то, что штурмовая дивизия застряла в нелепых и смешных тенетах. Кто-то страшно заплатит…
Томас вновь сжал кулаки, прислушиваясь к канонаде за бортами автомобиля. Надо перегруппироваться, усилить фланги. Еще не все потеряно, пионеры наверняка уже смяли преграду, а его «ягеры» добьют настырных русских самоубийц. Немного – самую малость – приукрасить действительность, составить надлежащим образом доклад, преподнести гвардейцев в надлежащем виде, как элиту элит, которую тем не менее…
Мир рухнул на нобиля, взорвавшись коротким резким ударом, огненно-красной вспышкой и грохотом, который хлестнул по ушам, как плеть. Осязание, зрение, слух – все послушные и верные слуги его тела и разума возопили одновременно, корчась от запредельной боли.
И оставили хозяина безвозвратно.
«Где я?»
«Что со мной?»
Некому было сообщить нобилю, что его бронеавтомобиль лежит, перевернутый, обожженный до черноты световой и температурной вспышкой русской ракеты с атомной боеголовкой. Тяжкий молот взрыва причесал огненным гребнем порядки штурмовой дивизии, превратив непобедимых «ягеров» в разрозненные группы смертельно испуганных людей.
Ракетчики понимали, что обрекают на смерть тех немногих гвардейцев, кто еще оставался в живых. Но командир батареи принял решение, зная, что никогда не сможет примириться со своей совестью.
Томас этого не ведал. Как не ведал и того, что вторая ракета накрыла атомную мортиру. Интенсивность применения сверхоружия на второстепенном участке фронта оказалась невероятной. Уровень разрушений и радиоактивного загрязнения превратили район в смертельно опасную и непроходимую пустыню.
Есть ли загробная жизнь, существует ли преисподняя – этого не дано знать смертному. Но одно можно сказать точно – последние минуты жизни Томаса Фрикке стали для него вечностью. Вечностью, проведенной в собственном аду, сотканном из всепожирающей, бессильной ненависти и ужаса.
* * *
- Донесение воздушной разведки.
- Говорите.
Пальцы связиста, читающего с листа, чуть подрагивали. Дрожал и голос, самую малость, так что только опытное ухо императора чувствовало запредельное напряжение офицера. Тот в самом прямом смысле слова держал в руках судьбу страны. Уже свершившуюся, но еще не оглашенную.
- Доклад… Связь восстановить не удалось. Воздушное наблюдение показывает… показывает, что Восьмой опорный пункт серьезно поврежден… Но продолжает действовать.
Связист поднял белое лицо от бумаги, взглянул на Константина, серого и больного даже на вид, прикрывшего веками воспаленные глаза.
- Дальше, - спокойно, словно нехотя повелел монарх.
- Продолжает действовать, - повторил офицер. – Пожары тушатся, в завалах проложены проезды. Автоколонны идут к фронту, к терминалу подтягиваются наши войсковые части и военная полиция, они готовятся защищать узел. Дальнейшее наблюдение невозможно – разведчик был поврежден воздушной ударной волной и попал в радиоактивную полосу, пришлось возвращаться. Разведка фронта готовит следующих.
- Восьмой устоял… - негромко сказал Константин, опуская руки на колени. Его дыхание, и без того частое и мелкое, перешло в череду всхлипов, тонко и высоко запищали приборы. Кардиолог бросился к креслу, но самодержец уже не видел этого.
Сердце понеслось с немыслимой скоростью… и неожиданно замерло. Император почувствовал, как будто в груди лопнула струна, которую долгие недели наматывали на ворот - понемногу, по миллиметру выбирая запас прочности. И, наконец, истончившаяся нить не выдержала.
Наверное, ему следовало испугаться. Могучий инстинкт тела кричал, что время вышло, пора уходить туда, где все равны – и правитель огромной державы, и последний бедняк. Но Константин думал не об этом.
В свое время он поделился с Терентьевым сокровенным – страхом перед безликим Координатором. Можно ли победить не человека, но символ, аватар абсолютного зла, у которого и лица то нет? Теперь император знал – можно. Бесплотный призрак, два года стоявший за каждым провалом, каждой неудачей, съежился и отполз за грань сознания. Как и положено тени, оказавшейся на свету.
Константину казалось, что даже сквозь невообразимую даль пространства он слышит безумный вой, полный отчаяния и безнадежности. А еще - нечеловеческого ужаса того, кто считал себя высшим существом, но был повержен и остался один на один с безжалостной предопределенностью.
«Я уйду, но мой народ будет жить» - с отчетливым спокойствием подумал русский император. – «Ты останешься и увидишь гибель своего».
* * *
Время шло, часы сменяли друг друга, но для Поволоцкого время остановилось. Точнее, утратило смысл. Непрерывный, неостановимый конвейер раненых, умирающих не оставлял возможности для посторонних мыслей. Да и не посторонних – тоже. Разум словно отгородился непроницаемой стеной от ужасов, разворачивающихся на операционном столе.
Всех легких везли в тыл, но десятки тяжелых и безнадежных - оставались.
Хирург работал, как автомат, механически совершая заученные действия, которые следовало проделать в каждом конкретном случае. Скальпель, зажим, нить. Никогда еще война так не старалась показать медику свое убийственное совершенство. Ранения всех видов и разновидностей, ожоги, облучение, минно-взрывные травмы, отравления – по отдельности и во всех мыслимых комбинациях.
Когда жажда становилась нестерпимой, медик, не отрываясь от очередного пациента, двигал плечом и говорил «воды». Он даже не смотрел, откуда берется трубка или стакан. Хирург не ощущал голода – это чувство тонуло в мертвенной, свинцовой усталости, растекающейся по членам. Многочасовой марафон со скальпелем наперевес сделал тело чрезвычайно чувствительным – почти любое движение отзывалось острой болью в мышцах. Поволоцкий сжимал зубы, заканчивал обработку и говорил «следующий».
В конце концов, Александр отстраненно понял, что он близок к полной потере годности – пальцы начинали подрагивать, яркий свет операционных ламп резал глаза, проникая в зрачки толстыми зазубренными иглами. И случилось чудо.
- Все, - просто и коротко сказала медсестра, похожая на привидение – бледное изможденное лицо с глубоко запавшими глазами.
Поволоцкий хотел было спросить «что?», но голосовой аппарат отказался служить – он словно забыл все слова, не относящиеся к медицине. Пришлось размассировать непослушными пальцами челюстные мышцы, вернуть подвижность закостеневшему языку.
- Что?
- Больше никого нет.
- Не может быть, - негромко сказал Александр, отступая от хирургического стола, недоуменно оглядываясь. От поясницы до шеи каждая мышца словно превратилась в натянутую веревку. Суставы в руках немилосердно ныли, колени одеревенели.
Он вышел из операционной, похожий на высокого, страшного и бородатого мясника, держа руки на отлете. Борода неприятно колола шею и, казалось, хрустела при каждом повороте головы. Или то были позвонки?..
Поволоцкий сел за небольшой канцелярский стол и закрыл голову руками. Он должен был идти, командовать, принимать отчеты. Следить за радиологической обстановкой, налаживать связь… Должен был.
- Прибыло пополнение. С медикаментами. Пробились, как только чуть спал уровень радиации. С ними еще какие-то чины.
Это сказал санитар. Постоял немного, ожидая указаний, не дождался и ушел.
Никогда медик не ощущал такой всепоглощающей, запредельной усталости. Он всегда считал, что когда говорят о «не шевельнуть ни рукой, ни ногой», это по большому счету лишь оправдание душевной слабости. А сейчас сам чувствовал, что проще умереть, чем открыть плотно зажмуренные глаза и что-то сделать. Хотелось лишь одного – сидеть вот так, в неподвижности, отгородившись от всего мира стеной безразличной апатии. Слишком много смертей для одного медика. Слишком много страданий несчастных, кому не помогло даже его искусство хирурга.