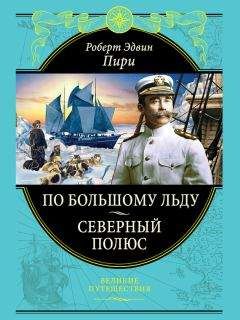– И я о том же мыслил,– согласился я.– Царевичу ныне куда как лучше подошло бы иное, пусть и не совсем философское. Ну, скажем, нечто вроде отцовского наставления от твоего имени, государь. Вот, к примеру, это.
И я процитировал, боясь лишь одного – осечься или забыть:
Я, с давних лет в правленье искушенный,
Мог удержать смятенье и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе,
Возвысить глас измена не дерзала[98].
Но нет, память не подвела. Хотя с того времени, как мы в школьном драмкружке ставили пушкинского «Бориса Годунова», прошло аж семь лет, однако строки помнились отчетливо, будто стояли перед глазами.
Но ты, младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, опутывать измену?
– Ты... откуда такое... словно моими устами?..– прошептал потрясенный царь.
Губы его тряслись, а правая рука вновь нырнула к сердцу.
Эк, как тебя разобрало, твое величество.
Я в смятении уставился на унизанную перстнями царскую руку, усиленно разминающую грудь. Вот уж воистину: велика сила настоящего искусства. Был бы на моем месте Александр Сергеевич, непременно заорал бы: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
И тут же испуганно подумалось: «А его кондрашка, случаем, не шибанет?»
– Чти далее,– хриплым голосом потребовал царь, тяжело опираясь на стол другой рукой.
– Вам бы присесть вначале, ваше величество.– И я кинулся на помощь.
– Да, чтой-то мне худо немного,– сознался Борис Федорович,– но ты чти, Феликс Константинович, чти далее, а оно пройдет. Такое уж не раз бывало. Поначалу худо, а опосля ништо.
Я растерянно забормотал далее. Лицо царя, жадно вслушивающегося в пушкинские строки, и впрямь порозовело. Я ободрился и уже более выразительно продолжил, предусмотрительно опустив слова про Шуйского и Басманова – уж слишком конкретны они были:
Ты с малых лет сидел со мною в Думе,
Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни – можешь
Их отменить; тебя благословят...
– Да-да,– не выдержав, прервал меня царь.– Все в точности. А ты слушай, сын, слушай! Чтоб кажное словцо... И ежели что со мной, помни, что ныне слышал, и поступай тако же.
Последнее говорилось напрасно. Федор и так был весь обращен в слух, жадно впитывая строки будущего классика из далекого девятнадцатого века.
Я припомнил поучения амбициозного режиссера, которыми он в свое время доставал юных актеров, в том числе и меня, и, приосанившись, словно и впрямь стою на сцене, продолжил:
Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
– Велику скорбь или великий праздник,– медленно повторил царь.– Все так, все так. Что ни слово, то истина, коя... коя куда лучшее всякой философии.
– Но и она нужна, государь,– возразил я, но, видя, что царь со мной не согласен, торопливо добавил: – Хотя можно поступить так. Ведомо мне, что в аглицкой земле живет некто Фрэнсис Бэкон – наиважнейший философ и муж, опытный в делах. Ныне король Яков пока что о нем не ведает, а потому, если сам Бэкон согласится, король легко отпустит его как учителя твоего сына. Пусть он и будет новым философом при твоем дворе. А я, коль будет на то твоя воля, займусь тем, что поближе к жизни. Помнится, попалась мне в руки некая занятная книжица – преизрядно в ней мудростей. А попутно, коли дозволишь, хотел бы обратиться к тебе с малой просьбишкой, чтоб ты не спешил отправлять своих послов к королю.
– Что так? – насторожился Борис Федорович.
– У меня тут человечек есть смышленый, так вот хотелось бы и его с ними послать. И от того человечка, государь, будет тебе и всему люду на Руси превеликая польза, если он только сумеет добыть все, что я ему обскажу. Вот только боюсь, что к осени они не управятся, но оно того стоит, тут уж мне поверь.
– Разумному человеку отчего ж не поверить. Зрю, хошь и молод ты, да умудрен не в одной токмо философии. А уж опосля того, что услышать довелось... Одначе сказываешь ты как-то в обход...– Царь неторопливо встал, слегка покачнулся, но тут же выпрямился, властным жестом остановив сына, кинувшегося его поддержать, и негромко произнес: – Словом, полно тебе колесить вокруг да около. Пойдем-ка в мою Думную келью, да там все напрямки и изложишь.
– Да мне бы тогда поосновательнее подготовиться к докладу,– замялся я.– К тому же и бояре, скорее всего, разошлись по домам.
– Какие бояре? – нахмурился царь и слабо улыбнулся.– Эва, чего ты удумал. Нет, княж Феликс, бояре нам ныне ни к чему. Да и опосля, мыслю, без них обойдемся. Не боись, в той Думной келье люд надежный да проверенный. Слова никому не скажет.
Я было успокоился, но потом, следуя по извилистому пути, где галерейки то и дело перемежались либо темными узкими переходами, либо лесенками, уводящими то вниз, то вверх, вновь встревожился. На этот раз причиной тому был сам царь, который тяжело дышал и пару раз даже останавливался, чтобы перевести дыхание.
Да он врачами латан-перелатан!..
Заметь, как он хватает воздух ртом!..
Он дышит, как все шепчутся, на ладан...
И дышит-то, прикинь, с большим трудом!..[99]
– Может, и впрямь лекаря, государь? – взволнованно спросил я у Бориса Федоровича.
– Там, в моей Думной, питье стоит,– отмахнулся он.– Уж как-нибудь добреду.
Думная келья имела низенький вход, где даже царю, имевшему рост полтора метра с небольшим гаком, пришлось нагибаться. Само помещение тоже не очень походило на светлицы царского дворца, скорее и впрямь на келью. Простые бревенчатые стены, да и все прочее не носило ни малейшего отпечатка роскоши. Разве что серебряные подсвечники, стоящие на грубо сколоченном столе, и тяжелые даже на вид, вот и все богатство.
Единственный обитатель комнаты тоже не был похож на какого-нибудь особо доверенного советника из числа высшей знати. Во-первых, самая что ни на есть простая одежда, а во-вторых – возраст. По летам он не годился даже в царские рынды: в десять – двенадцать годков топорик, пусть и декоративный, часами на плече не удержишь. Да никто бы его туда и не взял, этого альбиноса, у которого белыми были не только волосы, но и брови с ресницами.
Зато в его светло-голубых глазах засветилась такая щенячья радость при виде Бориса Федоровича, что я невольно улыбнулся.
– Ах ты, воробышек,– певуче произнес царь и, ласково потрепав мальчишечьи вихры, повернулся ко мне.– Вот так я и живу.– Он обвел рукой немудреную мебель.– Это мне вроде памяти – с чего начинал я в доме свово стрыя, Димитрия Ивановича, упокой господь его святую душеньку.– И он размашисто перекрестился.