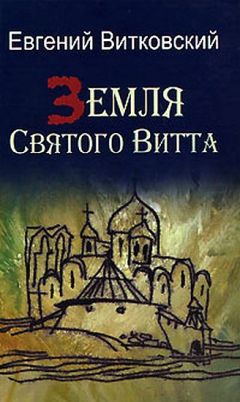«На сладкое» Гликерия оставляла себе разделы городской хроники — и объявления.
«Закончился двухмесячный конкурс на соискание почетного звания мастера-гирудопастуха, Как и в прошлом квартале, все соискатели потерпели сокрушительное фиаско».
«Справажен на почетный покой еще один заслуженный офеня. Известный в нашем городе и по всей Камаринской до Кимр и Арясина офеня Алешка Беспамятный в присутствии Малого Офенского Схода поставил по данному обету пудовые свечи ко всем семи киммерийским церквям Параскевы-Пятницы, после чего упомянутый Алешка навеки удалился в монастырь Святого Давида Рифейского».
«Еженедельная драка, имевшая место на Петров Доме в минувшую субботу между мастером-банщиком, мозолистом высшей квалификации Филимоном Шкандыбой и небезызвестной вдовой Перепетуей Землянико при участии небезызвестной вдовы Анастасии Артезианской, также действительной членшей гильдии вдов, в очередной раз завершилась бегством мастера Шкандыбы на Витковские Выселки. По ходу погони на этот раз А.Артезианской, впрочем, удалось срезать мозолисту обе подметки. П.Землянико лишила мастера некоторой части его выходной прически. Мастер — в свою очередь — достиг Витковских Выселок с тремя рукавами в рюшах и одною серебряною серьгою, каковые и возложил в воскресенье на Земле Святого Витта к могиле своего пращура, известного Шкандыбы Препотешного».
Эту новость Гликерия читала уже в тысячный, наверное, раз. Бежал с поля боя каждый раз именно Шкандыба, но предметы обдирались друг с друга разные — и потому было интересно. Хроника кончалась, и со вздохом Гликерия начинала читать объявления.
«Позавчера в девятнадцать часов двадцать три минуты в районе Открытопереломного проезда утеряна шляпа: женская, в мелкую зеленую и желтую клетку с двумя белыми перьями и белою же подкладкой. Нашедшего убедительная просьба сообщить за вознаграждение местонахождение перьев.»
Гликерия задумалась, потому как до Открытопереломного от Саксонской — ста аршин не будет. Уж не съела ли эта шляпу коза Охромеишна Младшая, сменившая на дворе Подселенцева Охромеишну Старшую, Пророчицу? Долго прожила старуха, однако, и день смерти своей точно предблеяла. Жаль, по-козьи никто, даже Нинель, не понимал ни бе ни ме. А то бы знал про все заранее. Даже про перья.
А нынешняя Охромеишна дурой была. И хотя росла у нее борода, как у козла, жесткая и противная, хотя пахло от нее именно козлом, хотя один ее рог завивался направо, а другой налево, и даже Нинель, присмотревшись, увидела, что три копыта у этой Охромеишны женские, а четвертое — мужское, хотя питалась она одною лишь рифейскою чечевицей с югославской приправой «вегета», и больше есть ничего не могла, — все равно будущего предсказывать не умела.
Обязанностей по дому, кроме добровольных, у Гликерии давно никаких не было. Доня с Нинухой управлялись и с бабьими делами, и за стариками присматривали, а что из мужских дел — так то либо рабы в подполе делали, либо Басилей-художник заходил и помогал. Дела у супругов давно и очень резко пошли в гору; на очереди за «обманками» хоть кисти Басилея, хоть кисти Веры стоял весь состоятельный Киммерион; в гостиных теперь непременно висела хоть одна, хоть маленькая их картинка: лимон, к примеру, на початой колоде игральных карт, притом и лимон тоже початый, чистить его начали, и на краю корочки — муха небольшая. Или же портрет хозяина в древнекиммерийском костюме, у которого воротник эдакими зубчиками. Или пейзаж с Земли Святого Витта. Все, конечно, недешево — но и никак не дорого, потому что дорого супруги брать не соглашались. Оттого к ним очередь и стояла. А еще часть картин откупала Киммерийская государственная картинная галерея имени царствующего государя. Галерея была при Киммерийской академии наук, на острове Петров Дом, и пожизненным ее директором состоял президент Академии, академик Гаспар Шерош.
День был июльский и при этом пасмурный. Мельком глянув в окно на набережную, Гликерия заметила, что у парапета стоит и смотрит на Землю Святого Витта человек, которого вся Киммерия узнавала за версту: вот именно этот самый единственный на всю Киммерию академик. Человек хороший, пусть себе стоит, чистым речным воздухом дышит. Хотя с Земли, бывает, и банно-прачечные запахи долетают, но чаще пахнет просто речной водой. Поглядела Гликерия на спину академика и пошла к телевизору. Каналов нынче вон сколько, можно выбрать себе для созерцания.
Гаспар стоял, положив на парапет пачку авторских экземпляров, полученных в типографии на острове Зачинная Кемь, в сотне саженей от епископального собора Лукерьи Киммерийской. «Занимательная Киммерия» вышла на этот раз седьмым, очень сильно расширенным изданием, с цветными вклейками и в твердом переплете, что, конечно, весьма замедлило ее выпуск: типография, согласно решению кого-то из архонтов конца девятнадцатого века, работала без помощи электричества, как мельница — на лошадиной тяге. Два пары угрюмых меринов киммерийской породы безнадежно ходили по кругу, круг вращался — и через привод давал силу допотопным печатным станкам, типографию оснащавшим. Если не считать типографской краски и кое-каких переплетных материалов, книги в Киммерии печатались совершенно чистые экологически. Слава Лукерье, чей собор был в двух шагах от типографии, что епископ Аполлос хотя бы освещение разрешил печатникам провести электрическое, хотя нынешними белыми ночами было это не столь и важно. А все-таки грело сердце Гаспара, что в традиционной двенадцатой корректуре книги не смог он найти не единой опечатки, — не считая того, что его имя на титульном листе было написано через «о». Забавно: в Киммерии слова растягивают, говорят напевно и долго — а тут присадили ему в имя говор «володимирский».
В позапрошлом году Гаспар отпраздновал свои пять декад — с этого дня, по общероссийским законам, пошла ему какая-то пенсия, вне зависимости от того, работал он или нет. Пенсию забирала жена, и дальнейшая судьба этих небольших денег была Гаспару совершенно неизвестна и неинтересна. Он как был Президентом Академии Киммерийских наук — так и остался, и жалованье при нем прежнее. Впрочем, жалованье забирала жена, и дальнейшая судьба этих довольно больших денег тоже находилась целиком под ее контролем. Гаспару нужны были только карманные деньги на трамвай и случайные расходы. За наличием в его карманах этих весьма и весьма небольших денег строго следила жена — и Гаспара совершенно не интересовало, откуда эти деньги берутся. Гаспар был всецело человеком науки и только науки — хотя и киммерийцем до мозга костей.
Гаспар отдыхал: путь от типографии до академии, да еще с тяжелым пакетом, был для него нынче не так уж и легок. Он смотрел сквозь тронутые сединой ресницы на запад, на южную, банную оконечность Земли Святого Витта, — и дальше в зарифейскую, клюквенную даль, где уже в невидимой дымке скрывалась непереходимая граница Киммерии, Свилеватая Тропка, спина Великого Змея. Пейзаж был знаком Гаспару лучше, чем собственные пять загадочно длинных, киммерийских пальцев. Веки Гаспара постепенно смежались, слипались, и по привычке немедленно начинали обостряться другие чувства: слух, осязание, особенно же обоняние. И внезапно, в какой-то миг грань реальности разорвалась, и Гаспар учуял запахи, которых не чуял никогда — и чуять не мог; следом послышались столь же неведомые звуки, и незнакомый воздух хлынул к нему в легкие. Ибо, стоя на берегу великого Рифея, Гаспар Шерош учуял запахи и услышал звуки моря.
— Таласса… — прошептал он, но волна запахов захватила сознание. Пахло соленой, синей океанской водой, пахло гниющими на берегу красными водорослями и всем иным, что оставляет на берегу недавний отлив, — ракушками, обломками морящегося с незапамятных времен дерева — большей частью такелажного, пахло другим деревом, окаменевшим в воде за столетия и больше известным под беломорским названием «адамова кость», пахло обломками санторинских, крито-микенских трирем и остатками войлока, некогда оборачивавшего весла; пахло медью и бронзой уключин того века, когда железо было еще слишком дорого для такого прозаического устройства, — пахло пенькой и смолой, пахло канатами, сохнущими парусами, дымком костра, на котором мальчишки — а то и взрослые — запекают мидий и крабов прямо в ракушках и панцирях; пахло босяцким тряпьем тех, кто чуть ли не круглый год живет на морском берегу; пахло уж и вовсе невозможными вещами, подгнивающими корнями мангровых зарослей, пахло просыпанным из плотно набитых тюков пряностями, черным перцем и гвоздикой, выброшенной кокосовой скорлупой, несусветно сильно пахло слежавшимся песком и мшистыми прибрежными валунами, что оголяются лишь при самом низком отливе, и мокрым щитом Ахилла и подгоревшим панцирем черепахи, и слизью медуз и выделениями клювастых осьминогов, пахло кистями и перьями рыбы латимерии, пометом альбатроса и слюной буревестника, пахло даже встающим солнцем (которым пахнуть здесь уж и вовсе не могло — Гаспар стоял, обратив лицо на запад), — и чем еще только не пахло! Главное, что Гаспар точно знал происхождение каждого запаха. Родовая память киммерийцев, минуя тридцать восемь столетий добровольного затворничества, накрыла академика с головой, и ему не хотелось открывать глаза: он лишь впитывал в себя море, и одними губами шептал: «Таласса, таласса…», что продолжалось довольно долго, пока мысль о том, что это, быть может, ничего особенного, просто смерть пришла — не заставила его усилием воли открыть глаза. Перед академиком был родной Рифей, кативший воду на север, в нынче свободную ото льдов Кару, по которой проходит граница Европы и Азии. Перед ним был самый западный из островов Киммериона, Земля Святого Витта. И еще перед ним, на парапете набережной, лежала пачка авторских экземпляров седьмого издания «Занимательной Киммерии». Это ее запах, аромат свежей бумаги и типографской краски, принял Гаспар за все те запахи, что были перечислены выше, — и многие другие, промелькнувшие так быстро, что и не успело найтись им ни ассоциации, на названия. Гаспар с любовью погладил верхнюю обложку. И с удивлением увидел, что на титульном листе опечатку в типографии убрали, да, конечно, но… Но золотом было оттиснуто на коленкоре обложки: