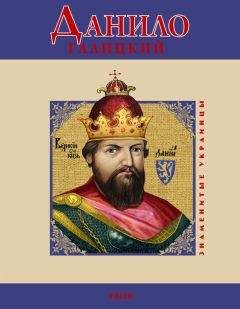Если скажу, что не испугался, это будет глупым и неуклюжим враньем. И к тому же бессмысленным. Я до сих пор жив только потому, что давно и крепко усвоил истину: бояться не стыдно. Даже герой и тот боится смерти, а еще больше – смерти медленной и мучительной. Так что ничего постыдного в самом факте испуга нет. Напротив, он мобилизует все силы, впрыскивая в кровь адреналин.
Нельзя лишь дать страху овладеть собой, отшибить разум и лишить самообладания. Потому что тогда – точно конец.
На ничтожную долю секунды мелькнула дикая, шальная мысль: «выключить» вестового, прыгнуть в седло княжеского коня (возражения конюха не волнуют, в крайнем случае потрачу на него еще пару секунд), помчаться в ту сторону, где собрались для водных процедур бабы… пардон, ясновельможные пани и панны со своими служанками, по пути – прихватить запасную лошадь для Анжелы… Слава богу, тут же прогнал ее. Шансов – ноль целых ноль десятых. Или застрелят, или догонят. Не такие уж мы классные наездники, чтобы состязаться с уланами.
В конце концов, не безумец же князь! Я ему очень нужен! Конечно, ревность – страшная штука, но даже если какая-то сволочь успела натрепать про страстные Гризельдины взгляды, подозрения – еще не уверенность…
Стоявшие у входа стражники вытянулись в струнку. А их старший, с нашивками вахмистра, почтительно склонился, отодвигая полог:
– Его княжья мосць ждет ясновельможного пана первого советника… Уже все готово!
В голосе вахмистра слышались зловещие нотки. Или мне только показалось?
Сделав несколько коротких, быстрых вдохов-выдохов, чтобы унять заколотившееся сердце, я вошел внутрь, постаравшись принять почтительно-серьезный вид. Глянет со стороны любой поляк – ни дать ни взять верноподданный спешит засвидетельствовать свое почтение сюзерену.
Ручаюсь, никто из них не понял бы, что видит боевую пружину, сжатую до предела. Готовую в любой момент сбросить стопор, распрямиться и хлестнуть так, что мало не покажется никому…
«Что может быть хуже голых мужчин?!» – в сердцах воскликнула однажды прелестная китаяночка Мулан, отправившаяся на войну под именем сводного брата Пинга и быстро понявшая все неудобства своего положения… Особенно при водных процедурах.
Анжела обожала этот диснеевский мультик, а эпизод на берегу водоема приводил ее в восторг, смешанный с экстазом. И, естественно, ей в голову не могло прийти, что наступит день, когда она уверенно ответит на этот вопрос: «Куча голых баб!»
Нет, застенчивость тут была никаким боком. Ею, как и излишним ханжеством, достойная дочь двадцать первого века сроду не страдала, хотя попытки двух знакомых по конной секции, убежденных нудисток, затащить ее на пляж к «братьям и сестрам» в Серебряном Бору были решительно отвергнуты. Анжела терпеливо объяснила, что дело тут вовсе не в ложной стыдливости – ведь микроскопический треугольный лоскутик на лобке и нашлепки на сосках можно принять за купальный костюм только при плохом зрении или с перепою. И уж тем более она не боится посягательств мужчин, распаленных видом ее девственно обнаженных прелестей… Да знает, знает, что серебряноборскую братию ими не распалишь! Просто не считает нужным избавляться от этих «остатков». Во-первых, ультрафиолет очень вреден для женских сосков, взрослым девкам знать бы надо! Во-вторых, этот песочек, чтоб ему, обладает подлой способностью забиваться в самые укромные места даже при наличии трусиков! А уж без них… А кто знает, сколько глистов и прочей гадости на этом серебряноборском пляже! Опять-таки и собачки там бегают, лапки задирают… Извините, уподобляйтесь Еве до грехопадения, на здоровье. Но без меня. Пусть трусики и впрямь микроскопические, а все же в них спокойнее.
Вроде растолковала ясно, четко, подробно… Не дошло. Вновь принялись уговаривать, божась, что песочек там чуть ли не стерильный. Тогда Анжела психанула, подробно объяснив, куда им надо пойти со своими правилами «единения с природой» и чем там заняться. Обиделись, отстали.
И вот теперь красавица-блондинка, растерянно озираясь по сторонам, впервые пожалела, что не поддалась на уговоры. Поскольку тогда она едва ли привлекла бы внимание толпы голых полячек во главе с ясновельможной княгиней Гризельдой! А также ввергла дочерей семнадцатого века в состояние, которое решительно невозможно описать одним словом, даже при всем желании. Впрочем, в двух или даже трех – тоже.
Хотя справедливости ради надо сразу указать, что сначала Анжелина нагота привлекла внимание всего одной полячки – толстой пани Катарины. Она же, побледнев и застучав зубами, испустила такой вопль, будто увидела в воде возле себя дохлую мышку. А потом, закатив глаза и схватившись… скажем деликатно, за то место, где полагается быть сердцу, завалилась набок, чуть не придавив родную дочку. Агнешка самоотверженно пыталась удержать мамулю, но добилась лишь того, что в воду шлепнулись обе. Приливная волна хлестнула на берег.
Естественно, через несколько мгновений вокруг них собралась толпа. Как всегда бывает в подобных случаях, все дамы загалдели одновременно. Одна шумная пани доказывала, что пани Катарину больно ущипнул рак. Другая с презрительным смешком ответила, что на песчаном мелководье раки не попадаются. Третья с ядовитой вежливостью тут же указала, что по-настоящему благородная пани в таких хлопских мелочах вовсе ничего не смыслит, а вот всякие случайные выскочки, которых зачем-то пустили меж вельможной шляхты… Четвертая гневно поинтересовалась, кого это имеют в виду. Пятая… Словом, если бы озадаченная и рассерженная Гризельда, выбежав из своей персональной купальни – участка берега, огражденного полотнищами, – не повысила голос, потребовав тишины, эта самая тишина установилась бы ой как не скоро!
– Так что все-таки произошло?! – строго спросила княгиня у пани Катарины, которую кое-как привели в чувство.
Бедная женщина, трясясь, как груда студня (и в прямом, и в переносном смысле), с трудом промямлила:
– Вот они… Ведьмины пятна!
И, торопливо перекрестившись, шепча посеревшими губами: «Матка Бозка, смилуйся и защити…», поочередно указала на соски и лобок Анжелы.
* * *
Добрая выпивка (а особливо еще под сытную, обильную закуску) способна творить чудеса, это известно всем.
Пан ротмистр Квятковский, как и подобало природному поляку, сначала всячески держал дистанцию меж собой и «схизматиками», оказывая – и то скрепя сердце – уважение одному лишь Хмельницкому. Как-никак хозяин, да еще бывший генеральный писарь войска реестрового. Но после того как по настоянию самозваного гетмана сперва выпили за здоровье дорогого гостя, то бишь самого Квятковского, потом – за здоровье ясновельможного пана сенатора Адама Киселя, пославшего его сюда с листом, а почти сразу же вслед за этим помянули душу безвременно усопшего короля Владислава, ротмистр почувствовал, как что-то теплое шевельнулось в душе. Уж до того трогательную речь произнес сотник Чигиринский! Прямо голос дрожал, когда перечислял достоинства покойника: такой-де был умный, великодушный, благородный, с таким подлинно христианским смирением и мужеством нес свой тяжкий крест, подвергаясь злобной хуле и нападкам беззаконников-магнатов. Отцом родным был для всех детей Речи Посполитой, не различая и не выделяя никого ни по вере, ни по языку, как и подобает мудрому справедливому родителю. И вот призвал его теперь Господь, а дети осиротели… Плачьте же, плачьте, панове! И самозванец впрямь всхлипнул, утер слезы, заблестевшие на глазах. А сподвижники его по мятежу просто возрыдали! Грубиян с подбитым глазом, который грозился «дотронуться» до особы посла, вообще затрясся, закрывая лицо ладонями…