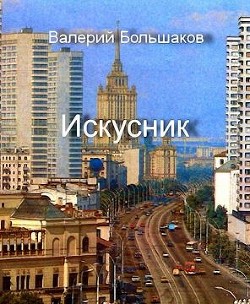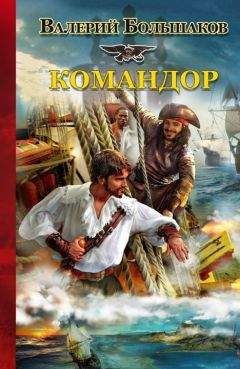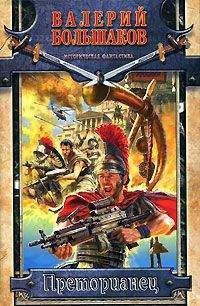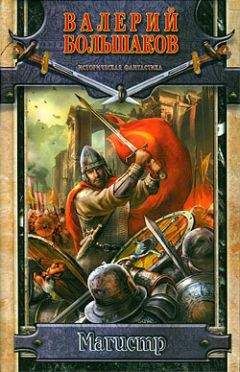«Надо новую рубашку купить, – озаботился я по хозяйству, – и белье, и полотенец пару… Да все надо!»
Пошарив рукой по стене, заклеенной выгоревшими обоями в цветочек, нащупал непривычный выключатель, и щелкнул. В высоте – потолки четыре двадцать! – засияла лампочка, криво висевшая на конце витого шнура в матерчатой изоляции. Она высветила вылущенную фреску в рамке пыльной, обколотой лепнины и неопрятные паутинные лохмотья, колыхавшиеся подобно водорослям в пруду. Смести бы, да как? Если только стол подтащить, а на него табуретку… Ага, а с табурета – об пол! Стремянка нужна.
Я прислушался к гомону, что волнами плавал по коридору, подкопил храбрости – и покинул свое убежище. Чем быстрее освоюсь, тем скорее исполню данные себе же обещания. Sic!
В коридоре стыл полумрак, разбавленный потоком света из кухни, а прямо передо мной задирала головку очень серьезная личность годиков трех или четырех, со смешными косичками, торчавшими в стороны, как уши магистра Йоды. Одетая в мамину кофточку до колен, с подвернутыми рукавами, личность требовательно протянула ручки, предлагая с непринужденностью котенка:
– На меня!
Я подхватил ее, не зная толком, как обращаться с мелкой, зато она знала, как обращаться со мной.
– Пливет, Антоса!
– Привет, Софи.
– Посли на кухню!
– Пошли…
Робея, я переступил порог обширного кухонного пространства, где было на удивление чисто. Обстановка, знакомая по кино – две газовые плиты на высоких ножках, занавесочки на окнах, шкафчики на стене – по числу квартир. А вот маленькие столики съехались вместе, в один общий стол, накрытый цветастой клеенкой с подпалинами. За ним восседало пятеро моих соседей. К полной женщине в возрасте, с круглым лицом в обрамлении кудряшек, подлащивалась Лиза, и стало ясно, что это ее мама. Рядом с тетей Верой чинно прямил спину пожилой мужчина с военной выправкой. Надо полагать, тот самый таинственный Роман Иваныч, больше некому. А наискосок от него жалась друг к другу молодая чета – оба в очках, чернявые и малость не от мира сего.
Радио придушенно запевало: «Потолок ледяной, две-ерь скри-пу-чая…», а меня зажало, как дебютанта на сцене. Умом я понимал, что «зрители» давно знают Антона по прозвищу «Пух», но я-то их вижу впервые! Спасибо Софи, помогла.
– Мамоцька! Папоцька! – воскликнул ребенок, тиская меня за шею. – Мозно, я за Антосу замуз выйду?
Развеселились все разом. Еровшин басисто захохотал, тетя Вера заколыхалась, давясь тонкими взвизгами, а парочка рассмеялась одинаково заливисто и белозубо.
Я передал родителям их чадо, и оно тут же облапило свою «мамоцьку».
– Садись с нами, Антоша, – сдобно улыбнулась тетя Вера, – я селедки баночной купила, и картошка еще горячая.
На столе, вываленные из кастрюли в белую эмалированную миску, парили, сахаристо искрясь, желтые клубни, а в овальном блюде разлеглись две или три жирненькие селёдины, порезанные крупно и щедро, усыпанные колечками лука и сдобренные пахучим «постным» маслом.
– Спасибо, – выговорил я, задавливая в себе интеллигентские замашки. – Не откажусь. Очень есть хочется!
Лизаветкина мама еще немного поколыхала пышным бюстом, досмеиваясь, и наложила мне картошки.
– Похудел-то как, – завздыхала она жалостливо. – Совсем тебя в больнице не кормили!
– Да нет, нормально вроде… – вступился я за здравоохранение, поглядывая в невинность лизкиных глаз.
– Да знаем мы ихние рационы! – тетя Вера пренебрежительно отмахнулась полной рукой, пережатой в запястье золотыми часиками.
Не чинясь, я потащил с блюда селедочный хвост – в нем костей меньше, а из сетчатой хлебницы – пару ломтиков душистой «чернушки». Натюрморт!
Полковник деловито придвинул маленький запотевший графинчик, и мы вступили в диалог, по-армейски лаконичный, но емкий:
– Будешь?
– Нет, – качнул я головой, чуя нутряной протест.
– Бросил?
– Да.
– Давно?
– Месяц.
– Молодец.
Лютый аппетит словно выключил во мне стеснение. Я наслаждался каждым кусочком – мясистой селедочки, хрусткого лучка, разваристой картошечки. Воистину, не найти ничего вкуснее простой еды, безо всяких кулинарных изысков да вывертов!
Основательно вкусив, я здорово подобрел и расположился к соседям. Стереотипы из страшилок о бытовых войнах и коммунальных кознях в этой квартире не срабатывали – рядом со мной жили вполне себе милые люди, особенно Катя и Лизаветка…
Настороженности во мне еще хватало. Я настолько интраверт, что с ходу ощутить себя своим в чужой компании не получалось. Зато меня так и подмывало расхвастаться своими умениями! Вряд ли реципиент пользовался уважением в соседском кругу, и мне очень хотелось удивить их, заставить по-иному взглянуть на никчемного «алкоголика, тунеядца и хулигана».
– Теть Вер, – будто в холодную воду бросился, – а давайте я вас нарисую!
– А меня? – подскочила Лиза.
– И тебя. Потом как-нибудь.
Мама растерянно посмотрела на дочь, на меня, и неуверенно пожала плечами.
– Ну-у… давай, – промямлила она, смутно понимая, на что соглашается. В тёть Верином взгляде даже легкое подозрение мелькнуло: уж не потешаюсь ли я над нею?
– Секундочку!
Я сбегал к себе, быстренько прикнопил к планшету лист шероховатой бумаги, прихватил рисовальные приспособы, и вернулся.
– Сидите, как вам удобно, – дозволил я, набрасывая контур легкими штришками твердого карандаша. Тетю Веру вряд ли можно было отнести к стандарту «девяносто – шестьдесят – девяносто», но вот Рубенса, с его тяжеловесными грациями, она бы точно вдохновила.
«Али мы не Рубенсы?..»
Округлые линии сангиной цвета спелого мандарина и яркой ржавчины, сдержанные перепады серой и черной сепии сложились в костяк рисунка, а растушевка скомканной салфеткой, а то и просто пальцами нарастила плоть, придавая плоскости глубину. Приглушенный охряный фон рывком приблизил изображение, словно отделил его от бумаги. Четкими линиями проявились глаза, разной светлотой заиграли валёры…
«Получилось, вроде…» – мелькнуло у меня. Затем резковато и вслух:
– А есть лак для волос?
– Щас! – сорвалась с места Лиза.
Шлеп-шлеп-шлеп… Прибежала.
– Вот! А зачем лак?
– Чтобы рисунок не осыпался.
– А-а… – уважительно затянула нимфетка.
Я встряхнул баллончик, распылил клейкую морось по бумаге, и выдохнул:
– Готово!
– Ну-ка, ну-ка… – заинтересовался Еровшин, надевая очки в толстой черной оправе.
– Можно? – прошептала Лизаветка, первой увидевшая портрет.
– Можно.
– Мам, смотри! – выдохнула девушка.
Тетя Вера порозовела от декольте до ушей. Майор приподнялся, чтобы лучше видеть, удерживая пальцами очки, а молодая чета замерла, одинаково кругля глаза. Тишина настала такая, что мне был ясно слышен ворчливый голос деда Трофима, воспитывавшего кота.
– Тётя Вела, тётя Вела! – громко запела Софи, хлопая в ладошки. – Мамоцька, смотли – тётя Вела!
Катя только головой помотала, всматриваясь в рисунок.
– Ты сто, – обиделся ребенок, – не велись?!
– Верю, солнышко, верю… – пробормотала молодая женщина, тиская дитя, и чмокнула в пухлую щечку. – Твой Антон – настоящий художник!
– Антоса! – зазвенел, завибрировал тонкий голосишко. – Ты худозник?
Я расслабленно кивнул, будто с устатку.
– Да-а… – забасил Еровшин, усаживаясь. – Поразили вы меня, Антон… По-хорошему поразили!
Красная от смущения тетя Вера гордо обвела взглядом соседей, а притихшая Лизаветка теребила косичку, ширя глаза то на маму, то на ее портрет.
– Мам, ты, оказывается, такая красивая у меня…
– Скажешь тоже… – запыхтела натурщица, повышая градус румянца.
Родители Софи переглянулись. Георгий кивнул Катерине, и та заговорила, преувеличенно оживляясь:
– О, Антон, пока не забыла! Помнишь, ты перед Новым годом еще говорил, что хочешь художником-оформителем устроиться? Не передумал еще?
– Нет, – мотнул я головой, подозрительно посматривая на доброхотов.