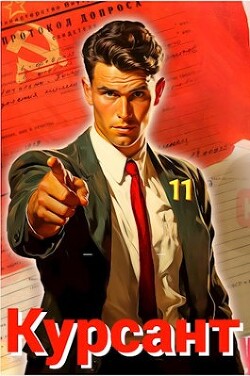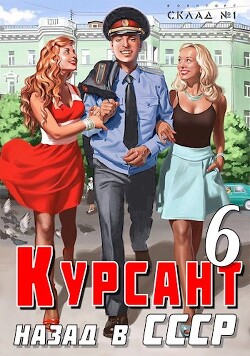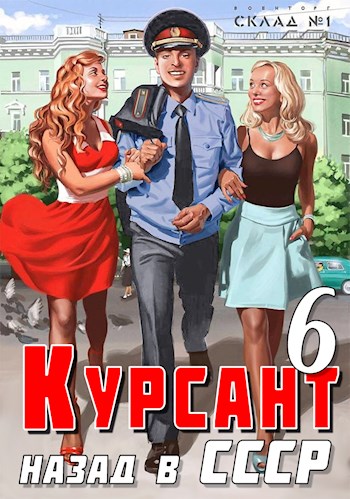весь бедлам, царивший в моей комнате. Диван, купленный родителями в шестидесятых, взамен кровати, из которой я вырос, был разложен, а постель — не убрана.
На полу валялись скомканные листки бумаги — отходы литературного производства и немые свидетели творческих мук начинающего литератора. На письменном столе тоже лежали густо исписанные и исчерканные листы. Это были пока не отвергнутые варианты. Пишущей машинкой в семьдесят пятом я еще не обзавелся, так что приходилось корябать свои опусы от руки. Я вспомнил, что как раз в этом году силился написать первый роман — нечто среднее между «Мастером и Маргаритой» Булгакова и «Блистающим миром» Грина.
Помнится, там был какой-то вымышленный портовый город, ведьмы и черти, которые днем притворялись добропорядочными обывателями, а по ночам творили разбой и разврат. И вот среди них появился человек, обладающий способностями к левитации, которого нечисть принимает за Сатану, а добропорядочные горожане — за Спасителя. Был там у меня и нищий художник, и любящая его девушка из богатой семьи, роковые тайны и ужасающие преступления.
Могла бы получиться недурная штучка, но мне никак не удавалось добиться легкости стиля и прозрачности языка. Получалось многословно и тяжеловесно. Неудивительно, что постепенно я забросил этот замысел. Наверное, если взяться за него снова, сейчас, когда у меня за плечами изрядный опыт литературной работы и полно здоровья, может что-нибудь получиться. Было бы желание. В любом случае, мне придется писать и публиковаться, дабы обрести свободу и достичь благополучия. Не на заводе же мне всю жизнь вкалывать!
Я взял веник и совок, что стояли у двери, и начал подметать пол. Может, юному литератору Краснову и нравился этот творческий бардак, но меня от него воротило. Собрав сор, я сдернул с дивана простыню, содрал пододеяльник с одеяла и наволочку с подушки. Сложил диван. Теперь нужно было вытряхнуть мусор в ведро на кухне, а заодно разжиться шваброй и тряпками — протереть мебель и пол. Иными словами — выйти из комнаты. А значит, увидеть своих дорогих соседей. И, выйдя, я сразу же наткнулся на соседку.
— Добрый вечер, Тёма! — певучим голосом поздоровалась она.
— Добрый вечер, Марианна Максимовна! — откликнулся я, старательно отгоняя видение лежащей в гробу почти семидесятилетней старухи, какой я видел эту симпатичную, милую женщину в последний раз. — Вот, уборку затеял…
— Похвально.
— И еще… Можно мне воспользоваться вашей стиралкой?
— Можно, — откликнулась она, — но будет лучше, если я сама прослежу за стиркой… Мужчинам этот сложный процесс доверять нельзя!
Я с удовольствием передал ей свое постельное белье — всё-таки заниматься им вручную у меня в любом времени желания мало. Видимо, услышав наш разговор, в коридор выглянул и второй сосед, Савелий Викторович. Мы обменялись рукопожатиями. Радостно было видеть его таким, каким он мне запомнился: чуть лысоватым и полноватым мужчиной, ловко выскальзывающим из сетей, которые расставила Марианна Максимовна, пытаясь затащить холостяка в ЗАГС. Никогда я не вникал в подробности их отношений, но мне кажется, Савелий Викторович все же оказывал соседке знаки внимания, как женщине, но дальше дело у них не пошло.
Телепнев расспросил меня о делах на работе — он всегда это делал, а потом удалился в свою комнату. Для соседей ничего особенного не произошло — Тёма Краснов пришел со смены. Для меня же это было возвращение в прошлое, и как будто вот теперь оно и стало самым настоящим.
Раздобыв ведро и пару тряпок, я навел порядок в своей комнате, а потом подошел к двери, ведущей в комнату родителей, и остановился в задумчивости. Тёма в ней не был лет пять, а я — в десять раз больше. Меня неудержимо влекло туда, и я придумал себе оправдание, что там тоже не мешало бы сделать уборку.
Дверь не запиралась, во всяком случае — с моей стороны. Я просто взялся за ручку и потянул створку на себя. Темно. Повернул выключатель. Люстра озарила небольшое пространство. Кровать-полуторка с никелированными шарами на спинках — в детстве мне нравилось разглядывать в этих шарах свое искаженное отражение. Фотографии предков на выцветших обоях. Зеркало-трельяж. За ним мама наводила красоту. Массивный старинный комод. Будучи совсем малявкой, я любил прятаться там, в нижнем ящике.
Над кроватью висел коврик с рисунком, изображающим оленей на опушке леса. Слезы невольно навернулись на глаза. Я понял, что мне не хватит духу шуршать в этой комнате веником и елозить тряпкой. Погасив свет, я плотно затворил дверь. Пусть все остается как есть. Я помнил, что, освобождая жилплощадь в связи с получением отдельной квартиры, я вывез из родительской спальни все памятные вещи — фотографии, пузырьки с мамиными духами, отцовские книги, ну и письма, разумеется, а мебель оставил новым жильцам.
Спать мне еще не хотелось. Книги, что стояли на полке, лежали на столе и подоконнике я много раз перечитывал. Был, правда, у меня катушечный магнитофон. Я извлек его из тумбы письменного стола, сунул вилку в розетку, включил. Завертелись бобины с пленкой. Задорный голос молодого Робертино Лоретти завопил: «Джамайка, Джамайка!…». Я взял со стола несколько листков, исчерканных моим молодым, еще по-ученически округлым почерком, и завалился на диван, не столько для того, чтобы почитать, сколько — напомнить себе, о чем вообще я писал в этом возрасте.
«Лиззи вздрогнула, метнулась к окну, страх перехватил ее горло, но она уже опомнилась, взяла себя в руки. В мертвенной тишине спальни затихал стон оборванной струны — это лопнул в груди пузырек охватившего ее ужаса. Сердце оплывало в груди девушки, словно догорающая свеча. Она невидящим взором смотрела в окно — на птиц, скользящих под вечерней сутолокой облаков и крутящиеся в прозрачной руке ветра флюгера на городских шпилях, но все это вдруг затмила одна тень. Люц всплыл из многометровой бездны, отделявшей ее окно от мостовой, бледным неулыбчивым призраком…»
М-да, как-то это слабо укладывается в каноны социалистического реализма. Даже если бы я и дописал это в 1975 году, ни один журнал такое бы не напечатал. Следовательно, дописывать этого я не стану. И скучные производственные романы, вроде «Солнцепека» — тоже не буду писать. Пусть все это останется в прошлой жизни. А вот «Откровенные сказки» стоит написать заново. Они народу нравятся. Я с горечью вспомнил свой последний разговор с редактором и задумался над его словами. По меньшей мере, из него можно вынести одну простую истину — если писатель хочет оставаться на плаву до самой