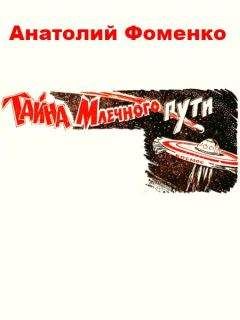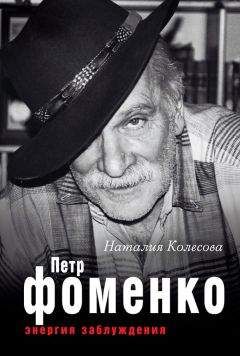— Напрасно. Гош, ты относишься к этому со своей, человеческой точки зрения, — мерно заговорил Лоханыч. — А ведь ни Поле, ни корректировщики по человеческим меркам не живут. Вспомни легенду о Кроносе, пожирающем своих детей.
— А я должен смотреть на это, да? — рявкнул Савельев. — А потом утешать родителей по принципу — Бог дал, Бог и взял?
Лоханыч пожал плечами:
— А что ты мог сделать? Ну вот если так посмотреть — что? Если б Семенов был зарегистрированным — другое дело. А он же стихийный. Понимаешь, отвечать за стихийников — все равно, как если хирург начнет корить себя за то, что не может поднять на ноги человека, которому перед этим оторвало все по самые яйца. Если у него на столе помер плановый больной — это одно. А если привезли явно безнадежного, с улицы, — совсем другое.
— Ты не понимаешь…
— Это ты не понимаешь, что у корректировщиков свои отношения с Полем. И нам их никогда не понять.
— А родители? — взвыл Савельев.
Лоханыч развел руками:
— Ничего не поделаешь. Это неизбежность. Родители теряют таких детей на самом деле сразу после рождения. Но не хотят в это верить, ни за что не хотят верить, что породили нечто непонятное, страшное своей инаковостью, безжалостное, находящееся далеко за рамками их разумения и никак не вписывающееся в привычный уютный мирок. Породили то, что должно, просто обречено уйти, перечеркнув все родительские усилия и все их надежды. Всю оставшуюся жизнь родители цепляются за свои иллюзии, связанные с такими детьми. А потом наступает крах этих иллюзий, когда родители видят перед собой уже оформившегося корректировщика, который от людей на самом деле дальше, чем инопланетяне. Некоторые родители отказываются верить в уникальность своих детей, в любую уникальность, отказываются столь упорно, что даже смерть ребенка лишь укрепляет их иллюзии. Такие легко переносят гибель чада: по крайней мере, чадушко больше не мешает представлять его таким, каким его хотелось бы видеть родителям. А есть другие, которые понимают, что рано или поздно момент наступит. И проводят черту отчуждения заранее, давая себе и ребенку время на отвыкание.
Савельев тяжело посмотрел на Илью.
— Мои родители — тоже? Заранее? — уточнил Илья, хотя и сам знал ответ.
— Прости их, Илюха, — сказал Савельев. — Никто не виноват. Твой отец в самом деле все сделал правильно. — Оказалось, он принес с собой стакан водки. Пил как воду, кадык длинно ходил вверх-вниз. — Леха, ты ж прогнозист. Ну хоть ты скажи — когда, черт подери, это закончится?!
Лоханыч грустно похлопал длинными ресницами. Илья отметил, что от Лоханыча совершенно не пахло водкой.
— Знаешь, я ведь не очень-то верил в теорию его отца, — Лоханыч кивнул на Илью. — Для инициации одного “рута” требуется чертова уйма энергии, и неизвестно, есть ли она у Поля — крупных “рутов” давно не рождалось. А нам предсказывают рождение сразу двух сильных корректировщиков. Сейчас думаю, что зря не верил. Все эти смерти… Поневоле начнешь думать, что Поле копит ресурсы для Вещего, а потому планомерно забирает корректировщиков низких ступеней. Ведь погибшие ребята возвращали Полю затраченную энергию. И такое происходит не только у нас. Мне вчера звонил мой сокурсник из Израиля, в истерике. За полгода — трое погибших “рутов” и один “постовщик”. Поле забирает всех, кого породило на всякий случай, даже без намерения инициировать, потому что ему больше нельзя рассеиваться.
— Ненавижу, — пробормотал Савельев, уткнувшись лбом в стекло. — Ненавижу этот циничный подход. Они рождаются людьми, обыкновенными людьми. Поле просто использует их. У них нет выбора, становиться корректировщиками или нет.
— Ни у кого никакого выбора нет, — мягко сказал Лоханыч. — Я думаю, у Поля тоже.
— Оно неживое, ему наплевать.
— Тебе-то откуда ведомо?
Савельев грохнул кулаком по подоконнику так, что стакан подпрыгнул. Но когда заговорил, в тоне не осталось ни гнева, ни злобы. Только усталость:
— Леха, так жить нельзя. Я четыре года то трясусь от страха, то хохочу как идиот. Всякий раз, когда погибает стихийник, сам не знаю, радоваться или рыдать, что это не Вещий. Я уже ненавижу этого чертова призрака. Знаешь, десять лет жизни без колебаний отдал бы за то, чтоб Илюхин отец — Илюха, прости, — оказался шизофреником, и Вещий Олег был бы всего лишь его любимым глюком! Но я сам, своими собственными глазами видел этот проклятый прямоугольный импульс четыре года назад. Я стоял за спиной Бондарчука в тот момент, понимаешь?! У меня вообще с тех пор вся жизнь — как треснувшее зеркало. По одну сторону трещины — Игорь Савельев, полковник, все дела. А по другую — какой-то безумный лик, который орет то от паники, то от счастья. Каждый видит только свою сторону жизни. Гошка Савельев — классную работу, активную жизнь, любимую семью, каждый день что-то новое, он на своем месте, и все в его жизни реально и объяснимо алгеброй. А тот сумасшедший — у него ничего реального нет. Одна мистика. Темно-серый туман и чувства. И кто из них я настоящий, не знаю.
Лоханыч положил руку ему на плечо:
— Мы все такие — треснувшие зеркала. У каждого есть своя тайная боль, которая живет в сером тумане и заставляет совершать неадекватные поступки. Думаешь, у Илюхи все в порядке?
Илья не хотел, чтобы на него обращали внимание, но Савельев уже обернулся, вперил в него тяжкий взор из-под набрякших век:
— У Илюхи? Да у него полный абзац. Ему сейчас вообще паршивей всех нас, вместе взятых.
— У меня все нормально.
— Да врешь ты все, я-то знаю… Слушай, Илюха, скажи мне, как мужик мужику. Мы, понятно, с корректировщиками… правильно Леха сказал — как с инопланетянами. А тебе-то как? Ты-то сам кем себя считаешь?
— Не тот вопрос, на который нужно искать ответ. Я такой, какой есть. Корректировщиков слишком мало, чтоб делить мир на своих и чужих, и… В общем, все равно все люди разные.
— Молодец, — сказал Савельев тоном учителя, принимавшего экзамен. — Знаешь, Илюха, давай мы с тобой договоримся. Мне до одного места, другой ты или такой же. Но я не хочу похоронить еще и тебя. Я знаю, что корректировщики перед инициацией впадают в мизантропию, так вот, ты не впадай. И когда соберешься инициироваться — позвони мне. Я тогда хоть меры приму, чтоб тебя вот так, как Семенова, поминать не пришлось. Обещаешь?
— Честное партийное, — съязвил Илья.
Савельев покачнулся, потянулся за стаканом, убедился, что он пуст. Расстроился:
— Ну вот, водка кончилась. Сейчас еще принесу.
— Гош, тебе б домой лучше поехать, — мягко сказал Лоханыч.
— Думаешь? — Савельев долго на него смотрел. — Ну, если ты так думаешь, поеду домой. Только пальто возьму, я его в кабинете оставил.