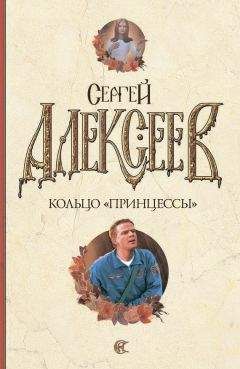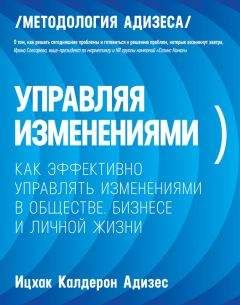— По праздникам претензий не принимаю, — не менее цинично ухмыльнулся он. — Завтра и в письменном виде.
Средний, Рудик, не спеша достал нож, оттянул длинный рукав плаща и поиграл сверкающим на солнце лезвием.
— Рэзать будем сегодня — не завтра. У нас каждый дэнь — праздник. Каждый дэнь рэжем.
— Рэзать потом! — заметил Якуб. — Сначала сделаем обрэзание! Ты знаешь, что такое — обрэзание?
— А ху-ху не хо-хо? — спросил Шабанов. — Нихт ферштеен? Не понял, да?
Самый хлипкий из них был старший — девичья фигура, соплей перешибешь, но командовал тут он и держался соответственно. Якуб и младший переглянулись, этот язык был понятен без перевода — будут мочить и ждать тут нечего.
Младшего звали то ли Хиуш, то ли Хауш, и был он покрепче первых двух и агрессивнее — настоящий горец. Будь у него нож в руках, зарезал бы молча и хладнокровно. Шабанов бил ему ногой в пах, но помешали полы плаща, и противник остался на ногах, лишь загнулся и сронил шляпу. Добавить бы еще снизу пинком по морде, да соблазнила эта белоснежная, широкополая шляпа — с удовольствием пнул ее и тут же схлопотал между глаз от старшего. Искры брызнули как из-под наждака, спас и не дал уйти в нокдаун тренированный вестибулярный аппарат. Шарф Якуба оказался в руке Шабанова, и от рывка он натянулся, помешал ударить среднему Рудику: держа нож в руке, тот бил кулаком, боялся «рэзать»! Не было приказа! Мозги, как и полагалось пилоту сверхзвукового истребителя, работали мгновенно, но не долго — секунд сорок, отпущенных судьбой, чтобы успеть принять решение прыгать или не прыгать. И если не дернул ручку катапульты, борись до конца за собственную жизнь, повинуясь уже не мысли, а простейшему, врожденному инстинкту.
Он понял, что нож лишь угроза, попытка взять на испуг, показать, что имеет дело с горячими, дикими и оскорбленными горцами, не знающими пощады. Младший распрямился и еще раз получил по роже, теперь кулаком — кожу на пальцах срезало, зубастый! Ушел в аут, но тут еще раз прилетело самому, и дальше началась уже беспорядочная потасовка, без расчета и приемов, кто кого достанет. Шабанов не выпускал шарфа старшего, таскал его за собой, как на веревке, и худосочный, придушенный Якуб с выпученными глазами пытался лишь освободить горло. Драться пришлось в основном с Рудиком — вооруженным, вертким, цепким и подвижным, да слишком легковесным, чтоб свалить, сбить восьмидесятикилограммового Германа. И он, изловчившись, ударил старшего мордой о дерево, бросил шарф и освободил руки.
— Зарежь его! — без всякого акцента, цивилизованно приказал Якуб, зажав лицо руками.
Средний отскочил и переложил нож из левой в правую руку.
Как назло перед майскими праздниками в ППН собрали все подснежники, вычистили и вымели — ни палки, ни кирпича, ни одной пустой бутылки! А тем временем Рудик, умело фехтуя ножом, пошел вперед, разжег себя визгом — вот она, дикая дивизия!
Как, откуда и почему рядом оказалась Магуль, Шабанов так и не понял, слишком увлечен был и сосредоточен на сверкающем лезвии. Услышал ее крик — незнакомый, и слишком мужественный для ее утонченного облика. Старший что-то заорал, завизжал, как зажатый дверью кот, и в этот миг Герман наконец-то увидел ее лицо страстным.
Изломав над головой тонкие руки, будто заклинательница огня, кавказская невеста взорвалась целым потоком фраз, голос ее сделался железно-гортанным, губы окрасились малиновым и изгибались резко, выразительно, словно у переводчицы на сурдоязык, вздулись крылья носа и загорелись огромные глаза.
Магуль была чуть ли не на голову выше своих старших братьев, однако испугались они силы ее внезапного гнева. Рудик спрятал нож, бросил сестре что-то визгливое и стал отрывать старшего, все еще стоящего в обнимку с деревом, о которое рассадил рожу. Младший встал сам, подобрал шляпу и принялся чистить ее, сверкая глазами.
— Зарэжу, — буркнул он в сторону Шабанова. Когда они уходили, отряхивая вымазанные зеленью и грязью белые плащи, Магуль еще что-то крикнула вслед — всего три слова, но вызвала гневную страсть младшего. Он развернулся и потрясая руками выдал целую тираду — должно быть, пеной брызгал при этом.
— Пхашароп! — совершенно с иной, чем прежде, интонацией бросила она.
— Почему сейчас-то тебе стыдно? — спросил Шабанов. — Мужики подрались, чего особенного?
— Братья дрались, как чеченцы. Абхазские мужчины не нападают втроем на одного безоружного.
— Правильная традиция, — одобрил Герман, трогая немеющие, распухавшие губы: кажется, и передние зубы шатались…
То ли под воздействием долгого общения с мастером секретных дел Заховаем, то ли от причины вполне объективной — неожиданного возникновения Магуль в ППН, куда не ходили честные, с хорошей репутацией девушки, у Шабанова сразу же возникло подозрение, что нападение братьев и потом явление сестры, спасающей от ножа — заранее спланированная акция. Конечно же он теперь обязан жизнью смелой и дерзкой кавказской принцессе! И никуда не денется — возьмет в жены, а потом злые и коварные братья под ножом или методом убеждения заставят уехать в Абхазию, чтоб создавать там ВВС республики.
Перспектива…
— Кто просил тебя вмешиваться, женщина? — на восточный манер спросил Герман.
— Братья напали, как бандиты — не как мужчины, — туповато повторила она, вновь однако же становясь покорной.
— Им простительно — мстили за сестру!
— Они не мстили за сестру. Они исполняли чужую волю.
— Так, так, продолжай! — заинтересовался он. — Чью волю?
— Начальник велел братьям поймать тебя и избить, — потупилась Магуль. — Хауш сказал…
— Кто?..
— Младший брат сказал…
— Какой начальник? Кто?
— Не знаю… Хауш говорит, начальник.
— Его фамилия — Заховай?
Магуль отлично говорила по-русски, однако сейчас сбивалась, подбирала слова — волновалась и прятала чувства.
— Хауш не назвал фамилию… Якуб знает фамилию, но Якуб молчал.
— А мне сказали совсем другое! Мол, благородный гнев! Месть! Зарэжем!
И еще раз по ее лицу промелькнула тень чувствительности — то, что скрыть было невозможно под белой маской.
— Абхазы тоже стали лживые, как чеченцы. Пхашароп! Мужчины говорят, месть за сестру, а исполняют чужую волю.
Он услышал обиду в голосе! Магуль хотелось, чтобы за нее мстили братья, но такового не случилось. И чувства эти звучали так просто и откровенно, что Шабанову стало жаль ее. Взяв безвольную руку, он привел кавказскую пленницу к скамеечке, усадил, а сам остался стоять.
— Надо уходить, — вяло воспротивилась она. — Здесь плохое место, люди увидят…