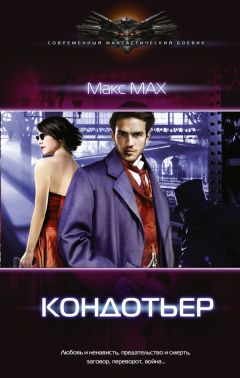«Вот уж, воистину! Седина в бороду, бес в ребро!» — Генрих лежал на спине и старался не шевелиться. Болела грудь, ныло, словно в предвкушении дождя, правое плечо, болезненные спазмы коротко прокатывались по бедрам и икрам. Ничего выдающегося, но и на нирвану непохоже. И, тем не менее, он был счастлив. Опустошен, выпотрошен, выжат, как лимон, и одновременно полон света, счастья и ожидания, чего не случалось с ним так давно, что он успел забыть, как это бывает и на что похоже. А еще — где-то на краю сознания, за болью и довольством — пряталось, как если бы стыдилось самого себя, чувство удивления. На самом деле Генрих был не просто удивлен. Он был изумлен, ошеломлен, обескуражен. Ему все еще не верилось, что случившееся с ним не сон, не пьяный бред, а правда, какая она есть. И дело было не в Наталье, хотя и в ней тоже, наверное, а в силе чувства, что испытал Генрих, едва его руки коснулись ее тела. Такой страсти он от себя, признаться, не ожидал. И более того, безумное вожделение, вспыхнувшее в нем, — как пожар или мятеж — охватившее его, захватившее, словно поток, испугало Генриха. Его жажда была лютой как боевое безумие. Страсть походила на ярость, желание — на гнев. Оставалось надеяться, что Наталья, которую и саму, как ни странно, «накрыло с головой», не вспомнит утром некоторых наиболее впечатляющих подробностей их ночной «битвы». Во всяком случае, вспоминая теперь, как и что он делал с ее телом, Генрих испытывал не столько гордость, сколько оторопь, и опасался, что женщина ему этого не простит. И вот это — последнее — было, пожалуй, самым странным в мешанине переживаемых им чувств. Генрих не мог понять, отчего так дорожит мнением Натальи. Вернее, не хотел этого знать.
— Шершнев…
Он повернул голову. Наталья смотрела на него, подняв глаза над краем шелковой простыни.
— Генрих Шершнев… — ее дыхание колебало тонкий шелк цвета слоновой кости.
— Я… — он колебался. Что можно сказать в подобной ситуации? Что должно говорить?
— Шершень, с ударением на второе «Е».
— Так точно! — он не отвел глаза. Смотрел в бездонную синь и пытался поймать нить беседы.
— По-немецки шершень — Хорниссе, с ударением на «и», переходящим на последнее «е».
— Все-таки университет, — кивнул Генрих.
— Романо-германская филология.
— От твоего голоса…
— Что, в самом деле? — это была первая улыбка Натальи на его памяти.
— В самом деле.
— Ты меня удивил, полковник Хорн.
— По-хорошему или по-плохому?
— Об этом я сейчас и думала. Решала, обидеться или наоборот.
— Что решила?
— Решила, что если повторишь такое еще раз, я или прибью тебя на месте, или буду целовать руки.
— Странный выбор… Не могли бы мы остановиться где-нибудь посередине?
— Нет, Генрих, — она отпустила простыню, и он увидел ее припухшие губы. — Это не для нас, не так ли?
— Пожалуй, так. Наташа — твое настоящее имя?
— Почти.
— Значит?
— Натали, но, если хочешь, называй меня Татой.
— Тата… — повторил он за ней. — Мне нравится.
— Я… Я думала, мне это приснилось. — Она взяла его руку и повернула перед глазами, совершенно не стесняясь того, что окончательно сползшая вниз простыня открыла Генриху ее наготу. — Как же тебя…
Что ж, что есть, то есть — шрамы покрывали все его тело. Жизнь на войне и вообще-то не сахар, а уж долгая жизнь… Удивительно другое. Как он умудрился выжить и сохранить лицо? В прямом и переносном смысле. Вот это действительно вопрос.
— Девятый час, — констатировал он с сожалением. — День, почитай, уж три часа как начался, а мы все еще в постели.
— С кем мы встречаемся сегодня? — она соскользнула с кровати, ловкая, стройная, но отнюдь не худая.
«Женщина, как женщина. Молодая, вот в чем, наверное, дело. А я старый…»
— Желающих много, — он тоже встал. Получилось не так естественно, да и внешностью гордиться не приходилось. Желания, красоваться «в чем мать родила», Генрих не испытывал, скорее, наоборот. — Но кое с кем встретиться просто необходимо.
— Возьмешь с собой? — она одевалась без спешки, методично отыскивая детали своего туалета, разбросанные по всей комнате, и заменяя — по ходу дела — то или это на вещи из шкафа.
— Всенепременно. А скажи, Тата, ты разве не собиралась увидеться со своей подругой? Как же ее? Ольга Берг, кажется, или я что-то путаю?
— Не путаешь, — повернула голову, посмотрела из-за плеча. Внимательный взгляд, тонкая кость обнаженного плеча. — Она Станиславская по мужу, — слова медленные, с подтекстом, как капли, падающие в воду с большой высоты. — Дмитрий был военным. Служил в охотничьем полку. Поручик — парашютист…
— Кабул? — спросил Генрих, прикидывая, где мог служить офицер-разведчик, погибший, судя по подтексту, в недавнее относительно время.
— Восточный Туркестан.
— Вот как, значит, Сянцзан, — кивнул Генрих. — Восстание уйгуров…
— Там, — подтвердила Наталья, отворачиваясь.
— Не хочешь с ней повидаться?
— А ты?
— И я бы не отказался. Разговор у нас вчера занятный получился, но, как ты помнишь, завершить его мы не успели.
«Берг… — вспомнил он. Кто бы мог подумать! Но портрет Серебряковой, вот главная интрига! Как же зовут ее мать?»
— Что ж, — пожала плечами, — девятый час, говоришь? Давай позавтракаем, и я ей позвоню. Здесь есть телефон?
— Обязательно есть. Как же в наше время и без телефона?
— Я могу им воспользоваться?
— Ни в чем себе не отказывай! — он прошел на кухню и стал варить кофе. Ему было любопытно, кому сейчас звонит Наталья, но не настолько, чтобы подслушивать. В конце концов, об этом и о многом другом ему чуть позже доложит Людвиг. А пока…
«Кофе и бутерброд с ветчиной! Могу я позволить себе съесть, наконец, что-нибудь человеческое?»
Под «человеческим», как и всегда, понималась простая сытная пища. Не то, чтобы Генрих не понимал гурманов. Понимал. И под настроение мог составить им вполне компетентную компанию. И все-таки, если речь заходила о еде, которая ему по-настоящему не надоедала, то это совсем о другом. Отварной картофель, печеная кукуруза, тушенная с перцем и томатами фасоль. Макароны по-флотски, гороховый суп на копченых свиных ребрах, холодец…
* * *
Все-таки, хочешь или нет, но положение обязывает, и по счетам попробуй не заплати. Натали прошлась по квартире, нашла телефонный аппарат, закурила папироску и начала накручивать диск. Первым делом — а начинать всегда следует с самого паскудного — набрала номер телефона конспиративной квартиры Годуна. Юрий Львович Павловский, известный в леворадикальном подполье под псевдо Годун, жил, практически не скрываясь. Он являлся — и не по легенде, а на самом деле — успешным и состоятельным частным поверенным, вполне официально вел в императорских уголовных судах дела анархистов, коммунистов и социалистов, со всеми был знаком и встречался открыто даже с теми из «этих всех», кто находился на нелегальном положении. Такое сложное существование между двумя отрицающими друг друга мирами позволяло, среди прочего, эффективно маскировать активное участие в работе боевой группы. Но вот уже об этом знали совсем немногие, и Натали, — как раз по случаю — была одной тех, кто знал это наверняка. Павловский являлся ее непосредственным командиром, насколько это вообще возможно в анархистской среде. Ну, а на конспиративной квартире — во всяком случае, той, о которой знала Натали — Годун содержал любовницу, что было, ужас, как практично. Во всех смыслах, если быть искренним. Ну, а в случае провала всегда можно покаяться в меньшем грехе. Перед женой, вот в чем соль, а не перед жандармскими дознавателями.