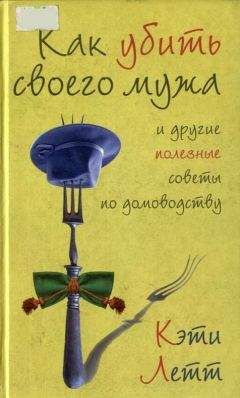Если они нашли Моули.
Исходи из того, что найдут. Ты обязан исходить из того, что найдут.
Значит, бежать. Куда?
Он не знал. За всю жизнь он ни разу не выезжал за пределы Хардинга. Никого не знал даже там, на Среднем Западе. И уж тем более на Восточном побережье. Не было места, где он мог чувствовать себя своим. Так куда? Куда?
Он и сам не заметил, как погрузился в тревожный, нервный сон. Моули они нашли без труда. В течение пяти минут выяснили, что Ричардс стал Спрингером после того, как выдернули два ногтя, залили пупок бензином и пригрозили поднести к нему зажигалку. Сразу же узнали номер рейса и прибыли в Нью-Йорк в половине третьего по местному времени. А сейчас они уже окружают отель. Места коридорных, официантов, швейцаров занимают Охотники. Полдюжины затаились у пожарной лестницы. Еще пятьдесят — у лифтов. Гораздо больше кружит вокруг отеля в пневмокарах. Вот они в холле, сейчас вышибут дверь и ворвутся в номер, чтобы вытащить его на всеобщее обозрение и превратить в гамбургер.
Ричардс сел, обливаясь потом. А он даже не вооружен.
Бежать! Быстро!
Для начала сойдет и Бостон.
Номер он покинул в пять вечера, спустился в вестибюль.
— Добрый день, мистер… э…
— Спрингер, — улыбнулся Ричардс. — Похоже, мне везет, старичок. Три клиента… проявили интерес. Придется задержаться в вашем замечательном отеле еще на пару дней. Я могу заплатить вперед?
— Разумеется, сэр.
Деньги поменяли хозяина. По-прежнему улыбаясь, Ричардс поднялся в номер. В коридоре ни души. Он повесил на дверь табличку «НЕ БЕСПОКОИТЬ» и направился к пожарной лестнице.
Ему сопутствовала удача, по пути никто не встретился. Он спустился вниз и незамеченным выскользнул через боковую дверь.
Дождь перестал, но над Манхэттеном плыли низкие тучи. В воздухе стоял резкий запах электролита. Ричардс шел быстро, забыв про хромоту, держа курс на автовокзал. Билеты на «грейхаунд» по-прежнему продавались без предъявления удостоверения личности.
— Бостон, — бросил он бородатому кассиру.
— Двадцать три бакса, приятель. Автобус отходит ровно в шесть пятнадцать.
Он отдал деньги. Из выданной Томпсоном суммы у него осталось чуть меньше трех тысяч новобаксов. До отхода автобуса оставался час, автовокзал кишел людьми, то и дело на глаза попадались солдаты Добровольческой армии, в синих беретах, с мальчишескими, но жестокими лицами. Он купил порнографический журнал, сел и закрылся им. Так и просидел час, уставившись на него, изредка переворачивая страницу, чтобы не вызывать подозрений.
Когда автобус подкатил к терминалу, он захромал к открывшимся дверям.
— Эй! Эй, ты!
Ричардс огляделся. К нему бежал коп. Он застыл, не в силах сдвинуться с места. Какая-то часть мозга исходила криком: беги, беги, беги, а не то с тобой разделаются прямо здесь, на заплеванном жвачкой полу автовокзала, среди стен, исписанных похабщиной. Беги, а не то станешь добычей тупоголового копа.
— Остановите его! Остановите этого парня!
Коп бежал не к нему. Показывал не на него. У Ричардса отлегло от сердца. Коп бежал за оборванцем, который слямзил дамскую сумочку и теперь бежал к лестнице, расталкивая идущих навстречу.
Он и его преследователь взлетели по ступеням, исчезли. Отъезжающие, приезжающие, встречающие проводили их взглядами, а затем вернулись к прежним занятиям, словно ничего и не произошло.
Ричардс встал в очередь, его трясло.
Он плюхнулся на сиденье в конце салона, а несколько минут спустя автобус мягко отъехал от терминала и влился в транспортный поток. Коп и его жертва растворились в человеческом море.
Если бы у меня был пистолет, я бы его прикончил, думал Ричардс. Господи, о Господи.
А в голове зазвучала другая мысль: в следующий раз он будет гнаться не за мелким воришкой — за тобой.
И в Бостоне надо обязательно разжиться пистолетом. Любым способом.
Ричардс вспомнил обещание Лафлина выкинуть из окна нескольких копов, прежде чем те отправят его к праотцам.
В сгущающихся сумерках автобус катил на север.
Здание бостонского отделения ИМКА,[10] огромное, почерневшее от времени, старомодное, располагалось на Хейнингтон-авеню. В середине прошлого столетия этот район считался в Бостоне едва ли не самым престижным. Теперь здание служило стыдливым напоминанием о других днях, другой эпохе, а его неоновая вывеска подмигивала всеми своими буквами кварталу порнографических кинотеатров, где христианством, мягко говоря, и не пахло.
Когда Ричардс вошел в вестибюль, портье яростно спорил с немытым негритенком, одетым в блузу для киллбола, такую длинную, что из-под нее торчали только манжеты джинсов.
— Я потерял мой пятицентовик, хонки. Я потерял мой гребаный пятицентовик.
— Если ты сейчас не уберешься отсюда, я вызову охрану, парень. Вот и все. Я тебе все сказал.
— Но этот чертов автомат сожрал мой пятицентовик!
— Прекрати ругаться при мне, маленький негодяй. — Портье, выглядел он лет на тридцать, протянул руку, схватил негритенка за грудки, тряхнул. — Убирайся отсюда. Не о чем нам больше говорить.
Видя, что портье настроен серьезно, негритенок чуть не расплакался.
— Послушай, это же единственный пятицентовик, который у меня был. Дерьмовый автомат сожрал мой пятицентовик, а жвачку не дал. Это…
— Я звоню в охрану. — Портье повернулся к коммутатору. Его пиджак, явно с чужого плеча, висел на нем как на вешалке.
Негритенок пнул ногой автомат, зажавший жевательную резинку, и выбежал из вестибюля, крикнув на прощание:
— Дерьмовая белая свинья. Гребаный сукин сын!
Портье проводил его взглядом, так и не нажав на кнопку вызова охраны, настоящую или выдуманную. Улыбнулся Ричардсу, в ряду зубов чернели прорехи.
— С этими ниггерами просто сладу нет. Если б я руководил Сетью, то держал бы их в клетках.
— Он действительно остался без пятицентовика? — спросил Ричардс, расписавшись в регистрационной книге как Диган из Мичигана.
— Если и остался, то этот пятицентовик он наверняка украл, — ответил портье. — Я в этом не сомневаюсь. А вот если бы я дал ему пятицентовик, то к вечеру две сотни попрошаек требовали бы у меня того же. Кто их только научил ругаться? У них же через каждое слово — брань. Неужели их родителям на это наплевать? Как долго вы у нас пробудете, мистер Диган?
— Еще не знаю. В город я приехал по делам. — Он попытался изобразить сальную улыбку, а когда почувствовал, что получается, улыбнулся еще шире. Портье узнал ее мгновенно (вероятно, потому, что не раз видел нечто подобное на отражении собственной физиономии в отполированной миллионами локтей мраморной стойке) и улыбнулся в ответ: