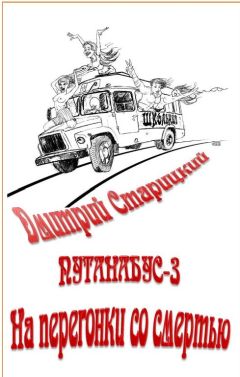Выехали уже со светом. По солнышку.
Пока военные добывали по селу подводу, я успел не только собраться, но даже побриться. Не только подбородок, но и голову. Собрать фельдшерский саквояж и накинуть сверху хорошо уже поношенной одежды рыжий брезентовый плащ. Длинный почти до земли и с капюшоном. На ноги пришлось надеть порыжелые сапоги из юфти, которые уже «просили каши», но ничего более приличного в избе не нашлось. Не айс. Нанковая косоворотка и серый пиджачишко с брюками от разных пар. И кепка-восьмиклинка. Что-то подсказывало мне, что одёжка получше есть в сундуке, но, в то же время, это же самое подсказывало, что не стоит при этих вроде как военных выделяться справным платьем.
Подвода, которую пригнали к моему дому, была собственностью знакомого мне мужика-односельчанина Трифона Евдокимова. Как и мерин — длинногривый соловый русский тяжеловоз, которого он привел в село с собой в семнадцатом году, когда дезертировал из артиллерии, в которой служил ездовым при пятидюймовых гаубицах в учебном полку. Гаубицы, правда, были 48-линейные[2], но Трифону больше нравилась круглые цифр.
Стянув с головы войлочный шляпок, Трифон с поклоном поздоровался со мной, когда я под конвоем солдат с винтовками выходил из избы.
— Доброго утречка вам, Егорий Митрич.
— И тебе Трифон не хворать, — ответил ему и уселся рядом с ним на облучок. Поглядел на солдат, смолящих махорку в самокрутках, и сказал ехидно.
— Что тормозим, служивые, или у вас люди не так шибко раненые, как обсказывали? Принадлежность этих с позволения сказать воинов была неясной. Никаких знаков различия они на своей форме — сильно потрепанной летней форме русской армии, не несли. Ни кокард каких, ни лент на головных уборах не было. Как и погон.
— Трифон, — спросил тихонечко, — Напомни мне: какое сегодня число?
— Так это… — вылупил на меня он белёсые зенки. — Сентябрь на дворе пятый день.
— А год?
— Год осьмнадцатый. Второй как царя скинули. И второй год республики уже пять дён как[3].
— Дела… — только и промолвил.
Пошарил по карманам, но сигарет не обнаружил.
— Трифон, у тебя закурить не найдется?
— Так не смолишь ты, Митрич, и нам всегда пенял на то, что вредно это для организьмы.
— Что-то захотелось, — отвернулся я от мужика.
Военные в это время, поплевав на окурки, пригасили их о каблуки и полезли на телегу, в заботливо накиданное Трифоном сено.
— Кудыть ехоть-то? — спросил их Трифон не оборачиваясь.
— В Лятошиновку, — ответил тот молодой, что с шашкой.
— Ну, хоть недалече, — с облегчением выдохнул Трифон и, набрав полную грудь воздуха, треснул вожжами по крупу своего мерина. — Но… Пошел, проклятый заклейменный.
Мерин невозмутимо и привычно застучал большими копытами по траве между колеями дороги, легко таща за собой телегу с шестью людьми. Всё же этот артиллерийский конь был привычен таскать вшестером две с половиной тонны походного веса гаубицы. С ездовыми. Что ему шесть не сильно откормленных человеческих тушек.
Я осмотрелся. Лес за селом действительно стал покрываться желтым листом. Но ещё как-то робко. В низинах стоял жидкий туман. Убранные поля желтели стернёй. Действительно осень уже.
Голода я не чувствовал, хотя изо всей еды выпил с утра только кружку колодезной воды из ведра в сенях. И конвоиры меня понукали, чтоб быстрей собирался. И этих дармоедов мне кормить совсем не хотелось. А пришлось бы, засвети перед ними я снедь.
— Господа военные, осветите темным селянам политический момент, — вдруг спросил Трифон.
— Господа все у прошлом году кончились, — спокойно, даже с некоторой ленцой, ответил один из солдат, — А те, кто не кончились, тех мы докончим. Всенепременно. Последнее слово он сказал с какой-то мечтательной интонацией.
— Ну, так как насчет политического момента? — пропустил Трифон мимо ушей революционную сентенцию, — Продразвёрстку исчо не отменили?
Хохот был ему ответом.
— Кто ж тебе её отменит, когда в Москве и Питере голод, — сказал молодой.
— Ну, да. Ну, да… — скуксился Трифон, — Оно понятно.
Но молодой, как оказалось, не всё сказал.
— Три дня назад ВЦИК[4] постановил превратить республику в военный лагерь. Создан Революционный военный совет, который возглавил товарищ Троцкий. Все красные партизанские отряды сводятся в единую Красную армию, — и уточнил, оттенив голосом, — Рабоче-крестьянскую Красную армию. Вашу армию. А её тоже кормить надоть. Так что нескоро продразвёрстка ваша кончится. Скоро придут к тебе из Пензы. Мешки готовь.
И красные партизаны снова заржали.
Чувствовалось, что они как-то ощущают свое превосходство над сельскими жителями. И это превосходство, скорее всего, кроется не в идеологии, которой им промывают мозги, а просто в том потёртом оружии, которые они держат в руках. «Винтовка рождает власть», — так, кажется, Мао сказал в сороковых годах. А сейчас восемнадцатый. Эти мужики в форме не могут так четко выразить свою мысль, как образованный китаец по имени Цзедун, но чувствуют то же самое. И это чувство им нравится.
Анархистская революционная вольница, которую скоро «лев революции» Троцкий станет лечить расстрелами популярных партизанских командиров.
Угораздило попасть. Да что там попасть — вляпаться! Хуже, чем на эту Новую Землю, на которой меня убили. Долго я тут не протяну. Не с моим длинным языком жить при красных. «Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется».[5] У них сейчас одно наказание за всё — расстрел.
Только мне уже всё по фиг. Я, наверное, теперь Агасфер. Тот самый «вечный жид», только не в собственной мумии по свету шатаюсь, а так вот переселяюсь незнамо как из тела в тело из времени во время. И это открытие что-то меня не радует.
Через час неспешной прогулки на трясучей телеге среди зеленеющих еще дубрав остановились перед двухэтажным домом волостной управы в соседнем селе.
Молодой партизан, придерживая шашку, тут же пташкой взлетел на крыльцо и пропал, хлопнув дверью.
Военные повылезали с телеги, тут же принявшись смолить махорку.
К телеге подошел мужик, несмотря на тепло, в справном армяке поздоровался с нами и поинтересовался.
— Как там у вас, Трифон, Лятошинский сад ноне с урожаем?
И выщербился довольной улыбкой из густой бороды.
— А тебе какое дело? — ответил Трифон, сворачивая цигарку.
— Да вот хотим княгинюшку пощипать на яблоки-груши. Сушки на зиму нарезать. Им всё одно столько не сожрать, даже вторую жопу отрастив. А продать столько нынче негде. Да и вывезти нечем.