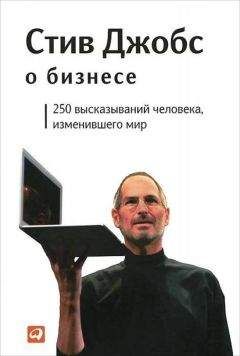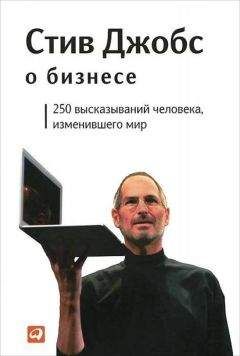– Да, звук старой погремушки узнаешь сразу. – Генрих осматривался с явным интересом. – Для чего эти клетки?
– Для материала, конечно. Пойдемте дальше, я покажу.
И они двинулись по какой-то из улиц, сопровождаемые безмолвным конвоем из людей будущего.
– Вот любопытный экземпляр. Смотрите. Я подобрал его на улицах Сантьяго. И поверьте, это не моя работа. Я только подправил кое-что… – Зеботтендорф махнул рукой в сторону ближайшей клетки.
Генрих поначалу ничего не увидел, но потом в дальнем углу обнаружилась скрюченная фигурка. Обнаженный мальчик. Нет, он не был похож на узников концлагеря, никакой изможденности, худобы. Но глаза… В глазах его было нечто, заставившее душу Генриха похолодеть. И теперь в слове «душа» он увидел особый смысл.
– Обычный мальчик, – рассказывал Зеботтендорф. – Самый обычный. Ничего особенного. Вполне разумен. По-своему образован. Но есть один нюанс. Это улица Страха…
– Чего же он боится?
– Раньше боялся боли. Панически. До истерики. Но я кое-что подправил. – Он подошел к клетке и позвал: – Хорхе, подойди.
Мальчик послушался.
– Дай руку.
Генрих прищурился. Ладонь парня была розовая, молодая.
Зеботтендорф щелкнул зажигалкой и поднес огонек к ладони мальчика. Вверх потянулся дымок, запахло паленым. Мальчик безучастно смотрел на чернеющую ладошку.
– Дьявол! – воскликнул Генрих. – Что вы делаете?! Он что, не чувствует боли?
– Чувствует! – Зеботтендорф откровенно радовался произведенному эффекту. Убрал огонь, мальчик принялся рассматривать свою ладонь. – Но, обратите внимание, он не боится боли! Не боится! Это само по себе удивительное открытие, друг мой. Именно страх, страх увечий заставляет человека избегать боли. Бояться ее, потому что боль сигнализирует о возможных увечьях. Но уберите страх, и вот оно, готово! Почти идеальный солдат!
– Что же, он теперь ничего не боится? – спросил Генрих, глядя на мальчика, который внимательно разглядывал обожженную руку. Один из людей в очках дал ему мазь, видимо от ожогов, и теперь мальчик втирал ее в рану. Представив, какую боль сейчас должна испытывать его ладонь, Генрих сморщился.
– Почему же не боится? Боится. С удвоенной силой. Я не смог изъять страх из его сознания, да и согласитесь, это было бы слишком опасно. Я просто изменил его. Теперь он боится одного слова. Вот смотрите. – Зеботтендорф обернулся к клетке и громко крикнул: – Буга!
Мальчик рванулся с места. Такой реакции Генрих не видел никогда. Пациент скачком преодолел расстояние до противоположенной стены и, не сбавляя хода, врезался лбом в прутья решетки. Брызнула кровь. Тело без сознания упало на пол.
Зеботтендорф засмеялся.
– Продолжим осмотр?
Возвращались в молчании. Лоос был на удивление трезв, смотрел прямо перед собой и иногда закрывал глаза, словно хотел спать. Зеботтендорф остался в лаборатории. Генрих же снова считал секунды и старался угадать, с какой скоростью движется машина.
Когда дверцы открылись, фон Лоос спросил:
– Выпить не хотите?
– Еще?
– Не знаю, как вы, но с меня всякий хмель слетает, когда я вижу эти… научные опыты.
Генрих внимательно посмотрел на него.
– Я вас не понимаю… Это что? Неумелая провокация? Но я не вижу в ней смысла. Или вам действительно не по душе все эти сатанинские аттракционы? Тогда почему вы вообще здесь? Что за игра?
Лоос взял его под локоть и повел в кабинет:
– Не могу пить один. Хотя чаще всего так и приходится делать. С Рудольфом это почти невозможно. Он слишком привязан к своим… пробиркам. Не может говорить ни о чем, кроме науки и прогресса.
Они вошли в кабинет. Лоос зажег настольную лампу, запер дверь.
Генрих уселся в большое мягкое кресло. Лоос в это время чем-то гремел под столом.
– Да где же оно?
– Что вы потеряли?
– Бутылку для особых случаев, – приглушенно ответил фон Лоос.
Наконец откуда-то была извлечена черная бутыль без этикетки и два стакана.
– Отрава? – поинтересовался Генрих.
– Мне бы вашу выдержку… – Лоос зубами выдернул пробку. По кабинету тотчас разнесся крепкий запах сивухи.
– Точно отрава… – пробормотал Генрих, но стакан принял.
– Это единственное средство, которое помогает мне заснуть. – Фон Лоос отсалютовал стаканом и опрокинул спиртное залпом.
Генрих с любопытством рассматривал его реакцию, затем отставил выпивку в сторону.
– У меня еще старое не выветрилось, – вздохнул он и после паузы поинтересовался: – Скажите, Лоос, на кой черт вам все это нужно?
– Что – все?
– Ну… – Генрих махнул рукой куда-то за спину. – Вы же не какой-нибудь сумасшедший головастик вроде Зиверса. К тому же вам откровенно не по нутру…
– Если вы про опыты Зеботтендорфа, то… – Лоос откинулся в кресле и закинул ноги на черную блестящую столешницу. Это далось ему с трудом, но Генрих позавидовал про себя, такой фокус в его возрасте был невозможен. – То я действительно от них не в восторге. Я также был не в восторге от Освенцима, Майданека и Бухенвальда. Я был не в восторге от вас и вашей работы. И от фюрера… И от Геббельса. И от этой чертовой войны! А уж наши союзнички… Впрочем, это вы и сами прекрасно знаете.
– Знаю.
– И война мне не по вкусу! – Лоос махнул рукой. – Я бы предпочел сидеть где-нибудь на берегу Рейна. Пить пиво. И есть сосиски! Да! – Он почти кричал. – Сосиски! Наши германские сосиски! И чтобы мне подавала их блондинка в переднике с вот такими вот, – Лоос показал, – вот такими вот сочными грудями!
Он грохнул кулаком об стол и ненадолго замолк. Генрих терпеливо ждал.
– Но когда в тридцатом моя жена умерла от гриппа… Когда я, фронтовик, не смог найти для нее лекарств… А наши дети смотрели на меня… Вы ведь помните, Генрих, вы должны помнить эти глаза?! Глаза немецких детей, которым нечего есть? А их сосед по улице, державший мясную лавку!.. – Лоос сжал кулаки и зажмурился. Стиснул зубы. Потом тяжело вздохнул и продолжил: – После той войны не было на свете человека, который бы больше меня ненавидел стрельбу, запах пороха и крови… Не было. Но когда фюрер сказал, что нужно воевать, я первым встал и зааплодировал. Потому что он сказал, что мы должны воевать, чтобы накормить наших детей, чтобы лечить наших жен. Чтобы старики не умирали, как бродячие псы. От голода и холода, когда продажное, чужеродное правительство продает Великую Германию коммунистам. Я встал и хлопал в ладоши, как ребенок! Но душа моя, Генрих, рыдала. Потому что я не хотел воевать. Я слишком хорошо помнил, как это делается.
Генрих хотел что-то сказать, но Лоос замахал руками.