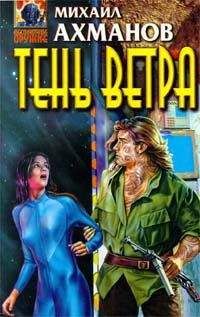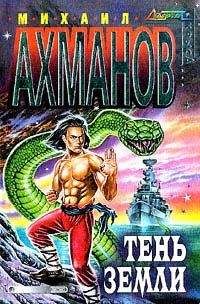Досматривать сон ему не хотелось. Он застонал, желая вырваться из омута сновидений, но прошлое крепко вцепилось в него, не отпускало, держало мертвой хваткой. Он должен был все увидеть и пережить; увидеть еще раз, пережить снова, ужаснуться и шагнуть за ту грань, где ожидала его последняя метаморфоза, где Дик Саймон, сын Филипа Саймона, превращался в тайского воина Две Руки из клана Теней Ветра. И сейчас, пребывая в сонном забытьи, он смирился с этим – как смирился тогда, на заваленной трупами поляне, у медленных темных вод лесной реки.
Он стоял, возвышаясь над побежденным и стискивая в кулаке нож – особый нож, ритуальный клинок тимару, короткий, узкий и заточенный до бритвенной остроты. Он стоял, слушал и ждал. Чего же? Чуда? Что пленник, валявшийся перед ним без сознания, внезапно вскочит и, перепрыгнув через кусты хиашо, обернется рыбой и скроется в реке? Или взлетит в небеса, точно посыльный орел с четырьмя крылами? Или…
– Режь! – ревели воины. – Режь! Режь!! Режь!!!
– Режь, – сказал Чоч, повелительно вытягивая руку. Он нагнулся и взмахнул ножом.
"Мы должны быть людьми, парень, – говорил отец. – Людьми, достойными уважения тай и тайя. Нам надо показать, что мы не уступаем им ни в чем… Понимаешь? Я говорю не о наших машинах и зданиях в сорок этажей, не о Пандусе, вертолетах и монорельсовой дороге, не о ружьях, глайдерах и телевизорах, а о вещах, которые ценят тайят. Ты не должен им уступать, Дик! Хоть мы, по их мнению, калеки…”
Глаза Дика открылись. Отцовский голос, будто комментируя беззвучные миражи и подводя им итог, еще звучал раскатистыми переливами, но врата в мир сновидений уже захлопнулись. Над ним белел потолок, в распахнутое окно вливался свежий утренний воздух, и где-то вдали вызванивали к заутрене соборные колокола. Он был в Смоленске, в коттедже на речном берегу, окруженном яблонями и кустами крыжовника, и от тайятских лесов его отделял широкий быстрый поток и невидимый барьер Периметра. Он был в своей комнате, лежал в своей постели – впервые за семь последних лет.
Сейчас, в первый момент пробуждения, ему казалось, что в нем уживаются разом три Дика. Первый был десятилетним мальчишкой, буйным и непоседливым, коего пестовали суровые руки тетушки Флори; второй – подростком и юношей, жившим в Чимаре, учеником Чочинги, возлюбленным темноглазой Чии; третьим был Дик Две Руки, воин Теней Ветра, возвратившийся из тайятских лесов. Собственно, уже не Дик, а Ричард Саймон, чей Шнур Доблести лишь на ладонь не доставал пояса. И висели на этом ожерелье отнюдь не крысиные клыки!
Сей факт мог ужаснуть Дика-мальчика и Дика-юношу, но Ричард Саймон относился к нему спокойно. Вот только эти сны… Проклятые сны… Там, в лесах, он не видел снов. А может, видел, да не запомнил… Во всяком случае, они не доставляли ему неприятных переживаний.
Он задумался, глядя в невысокий беленый потолок и чувствуя, как два первых Дика стремительно уменьшаются, отступают в прошлое, исчезают. Он вновь был Ричардом Саймоном, цельной личностью, воином и мужчиной, хоть по законам своей расы едва достиг совершеннолетия. Но возраст измеряется не годами, а опытом. Когда-то – тысячелетие назад! – отец спросил, твердо ли его намерение спуститься в лес. Отец не пытался его отговорить или подтолкнуть к определенному решению, он лишь сказал: тебе жить с людьми, сынок, все-таки с людьми, а не с тайят. Ты должен сделаться настоящим человеком…
Он, Дик-юноша, ответил: “Прежде, чем сделаться человеком, я хочу стать настоящим тай”. Что ж, он добился своего… Несомненно, лес был рубежом, разделявшим не только два мира, но и жизнь Ричарда Саймона. Теперь он понимал это с пронзительной ясностью и, размышляя о том, что потерял и что приобрел, почти не испытывал сожалений. Правда, потери значили, что он все-таки не сделался настоящим тай – ведь они не теряли ничего. Утраты же Дика Саймона доказывали, что он в какой-то части, пусть малой, но весьма ощутимой, остался человеком.
Он лежал в своей постели, в уютном домике на берегу Днепра, вспоминая мир утерянный и мир приобретенный.
Первый из них располагался на склонах Тисуйю-Амат, что означало Проводы Солнца, и на огромном плоскогорье Ти-суйю-Цор, простиравшемся на востоке – и, возможно, в иных местах, где были селения вроде Чимары, где распорядок жизни, спокойной и мирной, был подчинен велениям женщин. Женщины царили там: юные девушки избирали себе супругов, жены и матери правили в доме, а достигнув зрелых лет, во всем селении… Разумеется, в том смысле, в котором раса тайят понимала слово “править”, придуманное людьми. Для них власть не была самоцелью, а лишь средством для сохранения извечного распорядка, неизменного и нерушимого, как гранитные пики хребта Тисуйю.
Мужчин в женском мире уважали, и дозволялось им многое. Они могли любить своих жен, могли охотиться и заниматься ремеслом, могли наставлять молодых в искусствах и ритуалах, во всех умениях, какими сами обладали, не исключая воинского. У юношей тоже были свои права – выбрать Наставника и обучиться мастерству, к которому влекло их сердце. Тем, кто избирал путь воина, даже разрешались поединки – с оружием, но, разумеется, без крови. Ушей и пальцев в этих схватках не резали, а отбирали клановую повязку и носили ее пару дней у пояса как свидетельство победы.
Такими были правила игры в первом из миров тайят, принятые мужчинами без возражений. В женских поселках, на мирной земле, они не помнили обид, оскорблений и своих потерь, что бы ни было ими утрачено – пальцы, уши или близкий родич, брат-умма либо отец. Казалось, в каждом из них был запрятан некий рубильник, своевременно опускавшийся и замыкавший контур терпимости, едва лишь они попадали в мир женщин, за ту невидимую границу, что разделяла воинские стойбища и деревни на склонах Тисуйю-Амат.
Но они были реальностью, эти боевые лагеря сотни воинственных кланов, – как и весь второй мир, принадлежавший мужчинам и приравненный древней традицией к тайятским лесам. Мирные земли располагались наверху, в горах и предгорьях; лес был внизу, и в нем шла нескончаемая кровавая битва. Эти два измерения, столь чуждые друг другу, почти не соприкасались, однако продолжали существовать в каком-то странном, но неразрывном и цельном единстве. Для тайят оно представлялось естественным и само собой разумеющимся, но человек, даже возросший в Чимаре, не мог его воспринять.
Вернее, не воспринять, а перейти из одного мира к другому с той скоростью, что была доступна аборигенам. У человека тоже имелся рубильник, замыкавший контуры терпения в миролюбия, но сей механизм срабатывал гораздо медленней чем требовала ситуация. И в этом было еще одно различие между двурукими и четырехрукими обитателями Тайяхата.